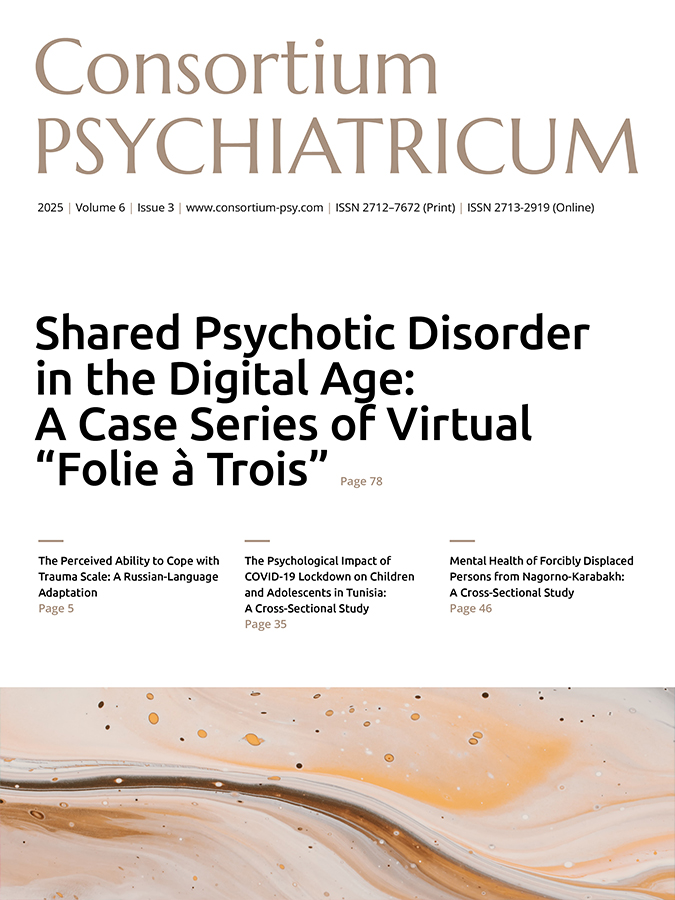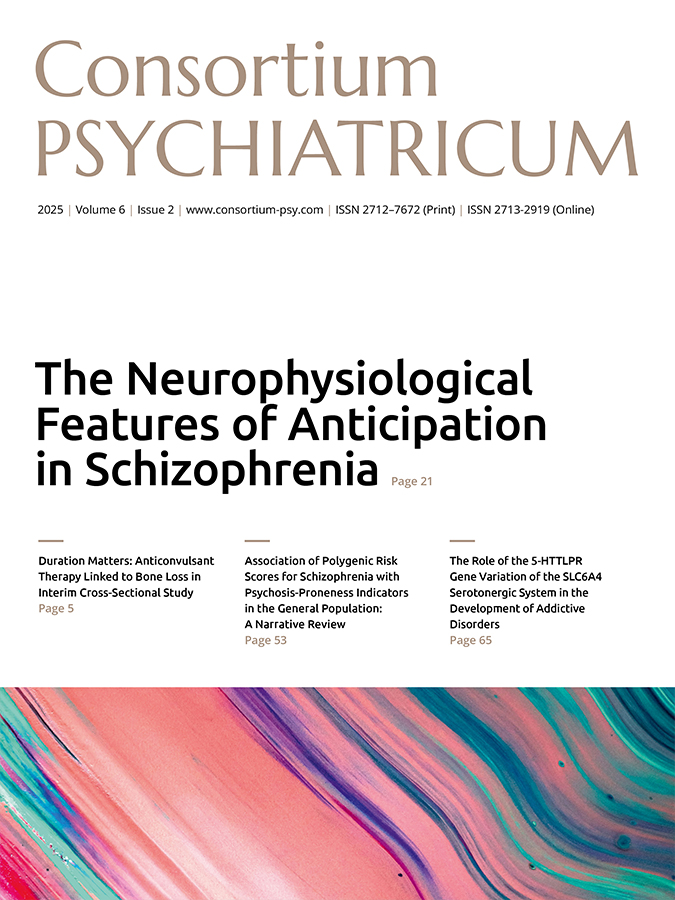Длительность терапии антиконвульсантами как фактор риска потери костной ткани: промежуточные результаты наблюдательного кросс-секционного исследования
- Авторы: Сивакова Н.А.1, Абрамова И.В.1, Трухина И.Ю.1, Рыбасова В.П.1, Сорокин М.Ю.1, Касьянов Е.Д.1, Лукина Л.В.1, Михайлов В.А.2, Мазо Г.Э.1
-
Учреждения:
- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
- V.M. Bekhterev National Medical Research Centre for Psychiatry and Neurology
- Выпуск: Том 6, № 2 (2025)
- Страницы: 5-20
- Раздел: ИССЛЕДОВАНИЕ
- Дата подачи: 23.06.2024
- Дата принятия к публикации: 05.05.2025
- Дата публикации: 06.07.2025
- URL: https://consortium-psy.com/jour/article/view/15553
- DOI: https://doi.org/10.17816/CP15553
- ID: 15553
Цитировать
Аннотация
ВВЕДЕНИЕ: Антиконвульсанты широко применяются для лечения пациентов с неврологическими заболеваниями и психическими расстройствами. Их длительный приём повышает риск снижения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) и низкоэнергетических переломов. Несмотря на рост исследований лекарственно-индуцированного остеопороза, влияние антиконвульсантов на микроархитектонику костной ткани изучено недостаточно.
ЦЕЛЬ: Изучить влияние длительности приема антиконвульсантов различных поколений на МПКТ и риск развития переломов.
МЕТОДЫ: Обследовали 100 взрослых пациентов с эпилепсией, принимающих антиконвульсанты более 12 месяцев, и 58 здоровых участников, которые никогда не принимали антиконвульсанты. Все участники прошли общеклиническое, психиатрическое и неврологическое обследование, а также денситометрическое исследование с помощью количественной компьютерной томографии в трех точках (поясничные позвонки L1, L2 и шейка бедра).
РЕЗУЛЬТАТЫ: У 47 (47%) пациентов, принимающих антиконвульсанты, выявили снижение МПКТ, в контрольной группе — у 29 (50%). Средняя длительность приёма антиконвульсантов у пациентов с нормальной МПКТ составила 8,7 года (SD=8,05), с остеопенией — 10,7 года (SD=7,07), с остеопорозом — 9,5 года (SD=5,24). Установлено, что возраст значительно влияет на показатели МПКТ, а длительность приёма антиконвульсантов — в меньшей степени. Пациенты, принимающие антиконвульсанты первого поколения, имели более низкие показатели МПКТ (p=0,018). ROC-анализ подтвердил связь между длительностью приёма антиконвульсантов и риском переломов (p<0,001). Пороговое значение показателя «длительность приема антиконвульсантов» в точке cut-off, которой соответствовало наивысшее значение индекса Юдена, — 10 лет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Длительная терапия традиционными антиконвульсантами негативно влияет на МПКТ и может приводить к патологической остеорезорбции, увеличивая риск переломов у пациентов. Антиконвульсанты нового поколения не показали выраженного негативного воздействия на МПКТ. Результаты исследования указывают на необходимость дальнейших исследований для более точного понимания влияния антиконвульсантов на костную ткань.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Антиконвульсанты (противосудорожные средства) нашли широкое применение в клинической практике при различных заболеваниях психоневрологического профиля. Однако использование антиконвульсантов в неврологии и антиконвульсантов с тимостабилизирующими свойствами в психиатрии существенно осложняется неблагоприятными эффектами препаратов, влияющими на качество жизни и эффективность терапии у пациентов, страдающих от эпилепсии и психических расстройств. Одно из отрицательных последствий длительного приема антиконвульсантов в неврологической и психиатрической клинике — метаболическое воздействие на костную систему пациентов, обусловливающее развитие остеопении и остеопороза, которое в дальнейшем может привести к низкоэнергетическим переломам. Были проведены исследования, указывающие на снижение минеральной плотности костной ткани (МПКТ) и повышенный риск переломов у пациентов с психическими расстройствами, получающих продолжительную терапию психотропными препаратами, включая антиконвульсанты [1, 2].
Наиболее традиционным направлением назначения противосудорожных препаратов является эпилепсия — психоневрологическое заболевание, которым страдают более 50 млн человек во всем мире [3]. При этом пациенты с эпилепсией составляют гетерогенную группу больных, характеризующихся вариативностью длительности и тяжести заболевания, а также наличием в большинстве случаев сопутствующего психического расстройства. На сегодняшний день эпилепсия и ее последствия представляют серьезную медицинскую проблему, имеющую отчетливую социально-экономическую составляющую. Большая часть больных эпилепсией для симптоматического лечения эпилептических приступов и психопатологических расстройств вынуждены пожизненно принимать антиконвульсанты [4, 5].
Основная цель фармакотерапии при эпилепсии — достичь полной ремиссии приступов с наименьшим риском развития побочных эффектов, связанных с применением препаратов. В настоящее время в повседневном использовании во всем мире находится около 30 антиконвульсантов. Противоэпилептическая терапия обычно подбирается с учетом таких факторов, как тип приступов, форма эпилепсии, возраст и пол пациента, а также сопутствующих заболеваний и характеристик антиконвульсантов, включая эффективность, безопасность, переносимость, фармакологический профиль и доступность препарата для пациента. Важно учитывать, что монотерапия антиконвульсантом не только в неврологической практике, но и при назначении его в качестве стабилизатора настроения в психиатрии в большинстве случаев не обеспечивает контроля над состоянием больного. Вследствие этого пациенты психоневрологического профиля часто получают политерапию. В отличие от лиц с психическими расстройствами, для лечения которых антиконвульсанты, как правило, сочетают с психотропными препаратами иных классов, у больных эпилепсией комбинация зачастую может включать несколько антиконвульсантов разных поколений. Это увеличивает совокупные побочные эффекты лекарственных препаратов и в то же время осложняет коррекцию нежелательных явлений посредством отмены противоэпилептической терапии.
Одним из недостаточно изученных побочных эффектов антиконвульсантов остается их отрицательное влияние на минеральный обмен и метаболизм костной ткани. С одной стороны, многими исследователями отмечается негативное воздействие индукторов микросомальных ферментов печени (цитохром Р450) на МПКТ [6]. Противоэпилептические препараты повышают активность фермента 25-гидроксивитамин D3-24-гидроксилазы (CYP24), который катализирует превращение 25(OH)D в его неактивный метаболит — 24,25-дигидрооксихолекальциферол (24,25(ОН)2D3). Дефицит активного метаболита витамина D — 1,25(ОН)2D3 — влечет снижение всасывания кальция, что, в свою очередь, увеличивает пролиферацию клеток паращитовидной железы и секрецию паратиреоидного гормона [6]. Такой вторичный гиперпаратиреоз стимулирует процессы резорбции кости, вызывая нарушение процессов ремоделирования и минерализации костной ткани, снижение ее плотности, изменение микроархитектуры и повышая риск возникновения низкоэнергетических переломов [6, 7]. С другой стороны, имеются данные, что длительное применение антиконвульсантов (индуцирующих и не индуцирующих ферменты) может быть причиной вторичного остеопороза [8]. Результаты одного исследования показали, что тип и доза лекарственного препарата, а также продолжительность лечения и политерапия являются предикторами остеопороза, индуцированного противосудорожными препаратами. Карбамазепин и вальпроевая кислота выделены как независимый фактор развития остеопороза, но тем не менее именно эти препараты по-прежнему наиболее широко используются в клинической практике психиатров и неврологов [9]. Антиконвульсанты с минимальным ферментиндуцирующим действием, например ламотриджин, считаются более безопасными по сравнению с традиционными противосудорожными препаратами [10]. Однако, несмотря на все большую распространенность антиконвульсантов нового поколения, данных об их влиянии на МПКТ недостаточно и механизмы их воздействия на костный метаболизм остаются малоизученными [11]. В качестве гипотез, объясняющих потерю костной массы при применении противосудорожной терапии, рассматриваются дефицит кальцитонина, гипергомоцистеинемия (связанная с изменениями микроархитектуры костей и повышенной хрупкостью костей), дефицит витамина K и карнитина, снижение уровня половых гормонов и прямое воздействие на остеокласты. Антиконвульсанты также оказывают прямое влияние на рост хондроцитов, особенно у детей, и на уровень витамина D и кальция [7]. В связи с этим коррекция уровня витамина D у пациентов психоневрологического профиля, получающих длительно антиконвульсанты, представляется рациональной профилактикой развития остеопороза.
Вместе с тем в этой области имеются весьма противоречивые данные. Исследование, проведенное в Индии, выявило значительное снижение МПКТ шейки бедренной кости у пациентов, принимающих антиконвульсанты, в отличие от контрольной группы [12]. Напротив, более позднее исследование, также изучавшее индийскую популяцию, не обнаружило достоверных различий в МПКТ поясничного отдела позвоночника и шейки бедренной кости между группами сравнения. Компьютерно-томографическая денситометрия (КТ-денситометрия) у больных эпилепсией продемонстрировала отрицательную корреляцию между кумулятивной лекарственной нагрузкой и уровнем Т-критерия. У пациентов, длительно принимающих антиконвульсанты, достоверно меняется микроархитектоника костной ткани, о чем свидетельствуют биохимические показатели и снижение МПКТ [13]. Поскольку пациентам необходимо принимать антиконвульсанты в течение длительного времени, часто комбинируя в составе политерапии препараты различных поколений с целью максимального контроля над состоянием, некоторые исследователи считают, что применение противосудорожной терапии (карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, вальпроевая кислота) в течение ≥2 лет является фактором риска повышения частоты переломов позвонков [14].
Потеря костной массы, обусловленная приемом антиконвульсантов, обычно протекает незаметно и бессимптомно. Как правило, остеопороз обнаруживается лишь на стадии свершившегося перелома. Компрессионные переломы позвонков являются наиболее распространенным типом остеопоротических переломов и могут приводить к повышенному риску возникновения переломов бедра и запястья. Компрессионные переломы позвонков в общей популяции часто диагностируют несвоевременно [15]. На этом этапе нарушение микроархитектоники костной ткани выражено уже настолько, что повреждение кости может возникнуть при минимальном приложении травмирующего агента или без него. Такие переломы называют патологическими или низкоэнергетическими.
У пациентов с эпилепсией риск падений в 6 раз выше, чем в общей популяции, что может увеличить вероятность получения травмы. Кроме того, частота развития остеопороза в этой группе больных в 1,7 раза выше [6]. Пациенты с первичными психическими расстройствами также подвержены повышенному риску падений по сравнению с общей популяцией. К факторам риска относятся острое психотическое состояние, биполярное аффективное расстройство и связанное с ним рискованное поведение, побочные эффекты психотропной терапии (седация, ортостатическая гипотензия) [16]. Снижение МПКТ, как правило, затрудняет лечение пациентов с травмами. Любое плановое оперативное вмешательство, будь то замена деформированного сустава или остеосинтез сломанного позвонка металлическими имплантатами, сопряжено с повышенным риском из-за хрупкости костей и риска миграции конструкции. Сочетание этих факторов негативно влияет на качество жизни пациентов психоневрологического профиля, к примеру снижает двигательную активность посредством длительной госпитализации и иммобилизации, что, в свою очередь, усугубляет дефицит витамина D и ухудшает состояние костной ткани [17]. Следует отметить, что в группу риска по развитию низкоэнергетических переломов помимо пациентов пожилого и старческого возраста входят пациенты молодого и среднего, то есть активного трудоспособного, возраста, что ухудшает бремя заболевания.
Несмотря на имеющиеся данные, описывающие взаимосвязь между изменениями костного и минерального обмена у пациентов, длительно принимающих противосудорожные препараты, в России проведено ограниченное количество исследований, посвященных этому аспекту. Недостаточная изученность механизмов влияния противосудорожных препаратов на метаболизм костной ткани подчеркивает необходимость проведения исследований, оценивающих факторы риска развития остеопороза, индуцированного противосудорожными препаратами, в российской популяции.
Исходя из вышеизложенного, основная гипотеза нашего исследования заключалась в следующем: длительное применение антиконвульсантов негативно влияет на минеральный обмен, что приводит к снижению МПКТ. Кроме того, были сформулированы дополнительные гипотезы: 1) антиконвульсанты последней генерации так же, как и традиционные препараты группы, влияют на костную ткань, вследствие чего происходит патологическая остеорезорбция; 2) длительный прием антиконвульсантов повышает вероятность развития переломов у больных эпилепсией как пациентов, наиболее системно принимающих антиконвульсанты.
Цель исследования — изучить влияние длительности приема антиконвульсантов различных поколений на МПКТ и риск развития переломов.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- Изучить МПКТ с помощью КТ-денситометрии у больных эпилепсией, соответствующих нейропсихиатрическим критериям и получающих антиконвульсанты в течение >12 месяцев (группа АК), а также у относительно здоровых добровольцев, никогда не получавших антиконвульсанты (группа БАК).
- Выявить частоту и степень снижения МПКТ в двух сравниваемых группах (АК и БАК).
- Сравнить дифференциальное воздействие традиционных препаратов (АК1: карбамазепин, вальпроевая кислота, бензобарбитал, фенобарбитал) и препаратов последнего поколения (АК2: леветирацетам, лакосамид, ламотриджин, окскарбазепин) на костную минеральную плотность (МПКТ).
- Проанализировать влияние длительности противосудорожной терапии на состояние костной ткани, а также выявить взаимосвязь между продолжительностью приема антиконвульсантов и снижением МПКТ с построением прогностической модели оценки риска развития изменений МПКТ при длительной противоэпилептической терапии.
- Оценить влияние длительности приема антиконвульсантов на вероятность развития переломов с построением прогностической модели оценки риска развития изменений МПКТ при длительной противоэпилептической терапии.
МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Проведено наблюдательное кросс-секционное исследование с включением двух групп сравнения: больных эпилепсией, принимающих антиконвульсанты более 12 месяцев, и здоровых добровольцев, никогда не принимавших антиконвульсанты.
Условия проведения
Исследование проведено на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России (г. Санкт-Петербург).
Критерии включения для группы больных эпилепсией:
- Участники мужского и женского пола в возрасте от 21 до 60 лет включительно.
- Стационарные и амбулаторные пациенты.
- Верифицированный диагноз «эпилепсия» (G40 по Международной классификации болезней 10-го пересмотра, МКБ-10).
- Длительность заболевания не менее 12 месяцев.
- Длительность противосудорожной терапии не менее 12 месяцев (АК1: карбамазепин, вальпроевая кислота, бензобарбитал, фенобарбитал; АК2: леветирацетам, лакосамид, ламотриджин, окскарбазепин).
- Способность прочитать, понять и подписать форму информированного согласия для участия в исследовании.
- Способность и желание соблюдать все процедуры исследования в соответствии с протоколом.
- Подписанное добровольное информированное согласие пациента на участие в исследовании, сбор социально-демографических и медицинских данных, проведение лучевой диагностики, забор и исследование биоматериала (кровь из вены), а также обработку обезличенных персональных социально-демографических и медицинских данных.
- Для женщин детородного периода — отрицательный тест на беременность.
Критерии включения для группы здоровых добровольцев:
- Участники мужского и женского пола в возрасте от 21 до 60 лет включительно.
- Участники, которые не получают и ранее не получали антиконвульсанты.
- Способность прочитать, понять и подписать форму информированного согласия для участия в исследовании.
- Способность и желание соблюдать все процедуры исследования в соответствии с протоколом.
- Подписанное добровольное информированное согласие пациента на участие в исследовании, сбор социально-демографических и медицинских данных, проведение лучевой диагностики, забор и исследование биоматериала (кровь из вены), а также обработку обезличенных персональных социально- демографических и медицинских данных.
- Для женщин детородного периода — отрицательный тест на беременность.
Критерии невключения для всех участников исследования:
- Возраст пациентов до 21 года включительно и старше 60 лет.
- Отказ пациента или его законного представителя от участия в исследовании.
- Наличие клинически значимых соматических заболеваний в стадии декомпенсации, эндокринологических, онкологических и других прогрессирующих болезней.
- Использование в настоящее время или в прошлом заместительной гормональной терапии, глюкокортикоидов, гепарина, антидепрессантов, антипсихотических препаратов.
- Выявление в процессе оценочного интервью мыслей суицидального характера или агрессивного поведения, требующих принятия немедленных мер медицинского характера.
- Выраженные когнитивные расстройства, проявляющиеся неспособностью участника прочитать и понять суть информированного согласия на участие в исследование.
- Для женщин детородного периода — положительный тест на беременность.
Критерии исключения для всех участников исследования:
- Отказ от выполнения мероприятий, предусмотренных протоколом, отзыв согласия.
- Выявленная во время исследования беременность.
- Начало приема по медицинским показаниям антидепрессантов, антипсихотиков, глюкокортикоидов, гепарина, гормон-заместительной терапии.
- Декомпенсация соматических заболеваний, затрудняющих участие в исследовании.
Инструменты оценки
Всем участникам исследования проведено клиническое обследование с оценкой соматического, неврологического и психического статуса, выполнен подробный сбор фармакологического анамнеза, а также сведений об образе жизни, социальном функционировании и вероятных факторах, влияющих на костный обмен. Для проведения исследования была разработана индивидуальная регистрационная карта, включавшая обезличенные данные о возрасте, диагнозе, терапии, перенесенных травмах.
Денситометрическое исследование МПКТ проводилось c помощью количественной компьютерной томографии (КТ) с использованием мильтидетекторного компьютерного томографа Canon Aquilion One 640 в трех точках (поясничные позвонки L1, L2 и шейка бедра). Результаты КТ-денситометрии оценивали по критериям T и Z согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Статистический анализ
Данные исследования были закодированы, организованы в таблицы и проанализированы статистически с использованием программного обеспечения StatTech версии 3.1.10. Количественные параметры были проверены на соответствие нормальному распределению с помощью критерия Шапиро–Уилка. Если данные имели нормальное распределение, то они описывались средними (M) и стандартными (SD) отклонениями, а также границами 95% доверительного интервала (95% ДИ). В случае отсутствия нормального распределения количественные данные были представлены медианой (Me) и нижним и верхним квартилями (Q1–Q3). Категориальные данные выражены в абсолютных значениях и процентных долях. Сравнение двух групп по количественному параметру с нормальным распределением и равной дисперсией выполнялось с помощью t-критерия Стьюдента. Для данных с нестандартным распределением использовался U-критерий Манна–Уитни. Однофакторный дисперсионный анализ применялся с целью сравнения трех и более групп с нормальным распределением, а критерий Краскела–Уоллиса — для данных с нестандартным распределением. Сравнение двух групп по бинарному признаку производилось посредством расчета отношения шансов. Процентные доли сравнивались с использованием критерия хи-квадрат Пирсона и точного критерия Фишера при анализе четырехпольных таблиц сопряженности. Связь между бинарной зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными оценивалась посредством многофакторной логистической регрессии. Корреляционная связь определялась с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Для разработки прогностической модели использовался метод линейной регрессии, а диагностическая значимость количественных признаков анализировалась методом ROC-кривых. ROC-кривая строилась путем сопоставления чувствительности и специфичности теста при различных пороговых значениях. Для выбора оптимальной точки на ROC-кривой использовался критерий Юдена. Уровень значимости p рассматривался следующим образом: p<0,05 является значительным, p<0,01 — высокозначимым, а p≥0,05 — несущественным.
Этическая экспертиза
Все участники получили полную информацию о проводимом исследовании и дали письменное согласие на участие в нем. Протокол исследования, форма информированного согласия пациента, индивидуальная регистрационная карта, а также проведение исследования рассмотрены и одобрены на заседании Этического комитета ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России (протокол № ЗК-И-1/23 от 26 января 2023 г.).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследование было включено 100 взрослых пациентов с эпилепсией в возрасте 21–60 лет (Me=36,0; межквартильный размах (IQR): 29,0; 43,0), длительно (более 12 месяцев) принимающих антиконвульсанты (группа АК), находящихся на амбулаторном или стационарном лечении в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России. Из них 53 (53%) женщины и 47 (47%) мужчин. Медиана длительности приема антиконвульсантов — 7 (IQR: 3; 14) лет, при этом минимальная продолжительность приема была 1 год, максимальная — 25 лет. В контрольную группу вошли 58 соматически здоровых добровольцев в возрасте 22–60 лет (Me=29,0; IQR: 25,0; 43,3), никогда не принимавших антиконвульсанты (группа БАК) и другие лекарственные препараты, способные повлиять на МПКТ. Из них 42 (72%) женщины и 16 (28%) мужчин. Характеристика групп АК и БАК представлена в табл. 1.
Таблица 1. Общая характеристика участников исследования
Параметр | Группа | Все участники (n=158) | Значения | ||
АК (n=100) | БАК (n=58) | ||||
Возраст (лет), Me (IQR) | 36,0 (29,0; 43,0) | 29,0 (25,0; 43,3) | 34,5 (26,0; 43,0) | H=4,008, p=0,045, ε²=0,026 | |
Т-критерий, L1/L2, M (SD) | −0,864 (1,224) | −0,724 (1,500) | −0,812 (1,329) | F=0,402, p=0,527, d=0,102 | |
Z-критерий, L1/L2, M (SD) | −0,550 (1,183) | −0,512 (1,129) | −0,536 (1,160) | F=0,040, p=0,842, d=0,033 | |
МПКТср, L1, M (SD) | 145,850 (34,189) | 142,500 (39,528) | 144,620 (36,152) | F=0,314, p=0,576, d=0,091 | |
МПКТср, L2, M (SD) | 145,080 (34,436) | 142,138 (39,185) | 144,000 (36,156) | F=0,242, p=0,624, d=0,080 | |
Пол, n (%) | Женщины | 53 (53,00%) | 42 (72,41%) | 95 (60,13%) | χ2=4,990, p=0,026, V=0,178 |
Мужчины | 47 (47,00%) | 16 (27,59%) | 63 (39,87%) | ||
КТ-изменения МПКТ, n (%) | Норма | 53 (53,00%) | 29 (50,00%) | 82 (51,90%) | χ2=0,294, p=0,863, V=0,043 |
Остеопения | 32 (32,00%) | 21 (36,21%) | 53 (33,54%) | ||
Остеопороз | 15 (15,00%) | 8 (13,79%) | 23 (14,56%) | ||
Примечание: d (Cohen’s d) — величина эффекта; ε2 — величина эффекта для теста Краскела–Уоллиса; F — точный критерий Фишера; Н — критерий Краскела–Уоллиса; IQR — межквартильный размах; L1 — 1-й поясничный позвонок; L2 — 2-й поясничный позвонок; М — среднее значение; Me — медиана; n — количество участников; р — уровень статистической значимости (или p<0,05 свидетельствует о статистической значимости эффекта); SD — стандартное отклонение; V (Cramér's V) — величина эффекта для таблиц сопряженности; χ2 — хи-квадрат Пирсона; АК — группа пациентов, принимающих антиконвульсанты; БАК — группа здоровых добровольцев, не принимающих антиконвульсанты; КТ — компьютерная томография; МПКТ — минеральная плотность костной ткани; МПКТср — средний показатель минеральной плотности костной ткани.
Распределение участников исследования по возрасту и полу в группах АК и БАК оказалось неоднородным (H=4,008, p=0,045 и χ2=4,990, p=0,026 соответственно). Несмотря на то что медиана возраста и межквартильный размах в группах АК и БАК соответствовали одной возрастной категории согласно критериям ВОЗ, распределение участников по возрасту значительно различалось: в группе АК преобладали участники в возрасте около 40 лет, тогда как в группе БАК отмечалось 2 пика — около 25 и 60 лет (рис. 1).
Рисунок 1. Распределение по возрасту в группе пациентов с эпилепсией, принимающих антиконвульсанты (АК), и в группе здоровых добровольцев, не принимающих антиконвульсанты (БАК).
Примечание: Me — медиана; n — количество участников; р — уровень статистической значимости (или p<0,05 свидетельствует о статистической значимости эффекта); АК — группа пациентов, принимающих антиконвульсанты; БАК — группа здоровых добровольцев, не принимающих антиконвульсанты.
Источник: Сивакова и соавт., 2025.
Выявленные различия представляют важное значение для анализа результатов и интерпретации данных исследования, учитывая, что остеопоротические нарушения являются возраст- и гендер-зависимыми. В связи с этим для дополнительного анализа из общей исследуемой выборки были выделены две группы, сопоставимые по полу (χ2=0,000, p=1,000) и возрасту (H=0,006, p=0,941): АКк — 46 пациентов с медианой возраста 33,0 (IQR: 26,3; 47,3) года; БАКк — 46 участников с медианой возраста 31,0 (IQR: 25,3; 49,3) год. Следует отметить, что сопоставимость групп по ключевым демографическим характеристикам минимизирует влияние потенциальных искажений и повышает достоверность результатов исследования. Таким образом, были сформированы группы АКк и БАКк. Дальнейший анализ этих групп, подобранных по возрасту и полу, позволит более точно оценить влияние продолжительности лечения антиконвульсантами на остеопоротические изменения (табл. 2).
Таблица 2. Общая характеристика скорректированных групп
Параметр | Группа | Все участники (n=92) | Значения | ||
АКк (n=46) | БАКк (n=46) | ||||
Возраст (лет), Me (IQR) | 33,0 (26,3; 47,3) | 31,0 (25,3; 49,3) | 32,0 (26,0; 49,5) | H=0,006, p=0,941, ε2=0,000 | |
Т-критерий, L1/L2, M (SD) | −0,797 (1,250) | −0,884 (1,496) | −0,840 (1,371) | F=0,091, p=0,763, d=0,063 | |
Z-критерий, L1/L2, M (SD) | −0,617 (1,231) | −0,601 (1,193) | −0,609 (1,206) | F=0,004, p=0,949, d=0,013 | |
МПКТср, L1, M (SD) | 146,804 (39,395) | 136,413 (38,211) | 141,609 (38,946) | F=1,649, p=0,202, d=0,268 | |
МПКТср, L2, M (SD) | 144,783 (39,360) | 137,587 (39,189) | 141,185 (39,225) | F=0,772, p=0,382, d=0,183 | |
Т-критерий, ШБ, Me (IQR) | −0,2 (−1,4; 0,8) | 0,0 (−0,9; 1,1) | 0,0 (−1,0; 0,8) | H=0,679, p=0,410, ε2=0,007 | |
Z-критерий, ШБ, M (SD) | −0,171 (1,100) | 0,179 (1,068) | 0,004 (1,093) | F=2,394, p=0,125, d=0,323 | |
МПКТср, ШБ, Me (IQR) | 0,8 (0,7; 0,9) | 0,8 (0,7; 0,9) | 0,8 (0,7; 0,9) | H=0,085, p=0,771, ε2=0,001 | |
Пол, n (%) | Женщины | 30 (65,22%) | 30 (65,22%) | 60 (65,22%) | χ2=0,000, p=1,000, V=0,000 |
Мужчины | 16 (34,78%) | 16 (34,78%) | 32 (34,78%) | ||
КТ-изменения МПКТ, n (%) | Норма | 26 (56,52%) | 20 (43,48%) | 46 (50,00%) | χ2=2,430, p=0,297, V=0,163 |
Остеопения | 12 (26,09%) | 19 (41,30%) | 31 (33,70%) | ||
Остеопороз | 8 (17,39%) | 7 (15,22%) | 15 (16,30%) | ||
Примечание: d (Cohen’s d) — величина эффекта; ε2 — величина эффекта для теста Краскела–Уоллиса; F — точный критерий Фишера; Н — критерий Краскела–Уоллиса; IQR — межквартильный размах; L1 — 1-й поясничный позвонок; L2 — 2-й поясничный позвонок; М — среднее значение; Me — медиана; n — количество участников; р — уровень статистической значимости (или p<0,05 свидетельствует о статистической значимости эффекта); SD — стандартное отклонение; V (Cramér's V) — величина эффекта для таблиц сопряженности; χ2 — хи-квадрат Пирсона; АКк — скорректированная группа пациентов, принимающих антиконвульсанты; БАКк — скорректированная группа здоровых добровольцев, не принимающих антиконвульсанты; КТ — компьютерная томография; МПКТ — минеральная плотность костной ткани; МПКТср — средний показатель минеральной плотности костной ткани; ШБ — шейка бедренной кости.
Пациенты из группы АК были разделены на две подгруппы в зависимости от поколения принимаемого антиконвульсанта: АК1 — больные, принимающие традиционные антиконвульсанты (карбамазепин, вальпроевая кислота, бензобарбитал, фенобарбитал); АК2 — больные, принимающие антиконвульсанты последней генерации (леветирацетам, лакосамид, ламотриджин, окскарбазепин). В подгруппу АК1 включено 40 пациентов, из них 21 (52,5%) мужчина и 19 (47,5%) женщин. Медиана возраста — 36,0 (IQR: 29,8; 42,0) лет. Подгруппу АК2 составили 59 человек, из них 25 (42,4%) мужчин и 34 (57,6%) женщины. Медиана возраста — 37,0 (IQR: 28,5; 43,5) лет. Подгруппы АК1 и АК2 сопоставимы по полу (χ2=0,618, p=0,432, V=0,079) и возрасту (H=0,572, p=0,449, ε2=0,006). Различия между подгруппами не связаны с демографическими факторами, такими как пол и возраст, что позволяет акцентировать внимание на оценке влияния поколений антиконвульсантов на исследуемые показатели. Общая характеристика исследуемых подгрупп АК1 и АК2 представлена в табл. 3.
Таблица 3. Общая характеристика пациентов, принимающих традиционные антиконвульсанты и антиконвульсанты нового поколения
Параметр | Подгруппа | Все участники (n=99) | Значения | ||
АК1 (n=40) | АК2 (n=59) | ||||
Возраст (лет), Me (IQR) | 36,0 (29,8; 42,0) | 37,0 (28,5; 43,5) | 36,0 (29,0; 43,0) | H=0,572, p=0,449, ε2=0,006 | |
Длительность приема АК (лет), M (SD) | 11,850 (9,542) | 7,814 (4,950) | 9,444 (7,396) | F=7,577, p=0,007, d=0,531 | |
Т-критерий, L1/L2, M (SD) | −1,126 (1,193) | −0,662 (1,216) | −0,850 (1,222) | F=3,518, p=0,064, d=0,385 | |
Z-критерий, L1/L2, M (SD) | −0,860 (1,310) | −0,317 (1,040) | −0,536 (1,181) | F=5,247, p=0,024, d=0,459 | |
МПКТср, L1, M (SD) | 137,675 (32,734) | 151,932 (34,256) | 146,172 (34,211) | F=4,279, p=0,041, d=0,426 | |
МПКТср, L2, M (SD) | 136,425 (33,012) | 151,441 (34,409) | 145,374 (34,486) | F=4,690, p=0,033, d=0,445 | |
Т-критерий, ШБ, M (SD) | −0,478 (1,469) | −0,010 (1,424) | −0,196 (1,453) | F=2,477, p=0,119, d=0,324 | |
Z-критерий, ШБ, M (SD) | −0,083 (1,140) | 0,116 (1,104) | 0,037 (1,117) | F=0,743, p=0,391, d=0,177 | |
МПКТср, ШБ, M (SD) | 0,769 (0,156) | 0,825 (0,210) | 0,802 (0,191) | F=2,027, p=0,158, d=0,303 | |
Пол, n (%) | Женщины | 19 (47,50%) | 34 (57,63%) | 53 (53,54%) | χ2=0,618, p=0,432, V=0,079 |
Мужчины | 21 (52,50%) | 25 (42,37%) | 46 (46,46%) | ||
КТ-изменения МПКТ, n (%) | Норма | 19 (47,50%) | 34 (57,63%) | 53 (53,54%) | χ2=1,048, p=0,592, V=0,103 |
Остеопения | 15 (37,50%) | 17 (28,81%) | 32 (32,32%) | ||
Остеопороз | 6 (15,00%) | 8 (13,56%) | 14 (14,14%) | ||
Примечание: d (Cohen’s d) — величина эффекта; ε2 — величина эффекта для теста Краскела–Уоллиса; F — точный критерий Фишера; Н — критерий Краскела–Уоллиса; IQR — межквартильный размах; L1 — 1-й поясничный позвонок; L2 — 2-й поясничный позвонок; М — среднее значение; Me — медиана; n — количество участников; р — уровень статистической значимости (или p<0,05 свидетельствует о статистической значимости эффекта); SD — стандартное отклонение; V (Cramér's V) — величина эффекта для таблиц сопряженности; χ2 — хи-квадрат Пирсона; АК — антиконвульсанты; АК1 — подгруппа больных, принимающих традиционные антиконвульсанты; АК2 — подгруппа больных, принимающих антиконвульсанты нового поколения; КТ — компьютерная томография; МПКТ — минеральная плотность костной ткани; МПКТср — средний показатель минеральной плотности костной ткани; ШБ — шейка бедренной кости.
Изменения минеральной плотности костной ткани
Оценка изменений МПКТ проводилась по степеням ее снижения: норма → снижение → остеопения → остеопороз. Исследование МПКТ по данным КТ-денситометрии показало, что у 47 (47,0%) пациентов из группы АК наблюдалось ее снижение, в том числе у 32 (32,0%) пациентов выявлены КТ-признаки остеопении, у 15 (15,0%) пациентов — КТ-признаки остеопороза. В группе БАК изменения МПКТ отмечались у 29 (50,0%) человек и распределились следующим образом: КТ-остеопения — у 21 (36,21%) участника, КТ-остеопороз — у 8 (13,79%) участников. При сравнительном анализе частоты выявляемости и степени КТ-изменений МПКТ между группами БАК и АК не обнаружено статистически значимых различий (χ2=0,294, p=0,863, V=0,043) (см. табл. 1). Анализ частоты и степени КТ-изменений МПКТ в скорректированных по возрасту и полу выборках АКк и БАКк также не показал значимых различий в сравниваемых группах (χ2=2,430, p=0,297, V=0,163) (см. табл. 2).
При анализе количественных показателей МПКТ в группах АК и БАК среднее значение T-критерия L1/L2 в группе АК составило −0,864 (SD=1,224), в группе БАК было равно −0,724 (SD=1,500) (F=0,402, p=0,527, d=0,102). Среднее значение Z-критерия L1/L2 в группе АК было −0,550 (SD=1,183), в группе БАК оно составило −0,512 (SD=1,129) (F=0,040, p=0,842, d=0,033). Среднее значение МПКТ для L1 в группе АК — 145,850 (SD=34,189), в группе БАК — 142,500 (SD=39,528) (F=0,314, p=0,576, d=0,091). Среднее значение МПКТ для L2 в группе АК — 145,080 (SD=34,436), в группе БАК — 142,138 (SD=39,185) (F=0,242, p=0,624, d=0,080). Таким образом, статистически значимые различия между группами АК и БАК по количественным показателям МПКТ не получены. Средние значения T-критерия L1/L2, Z-критерия L1/L2 и МПКТ (L1 и L2) в обеих группах находились в сопоставимых диапазонах, что подтверждается отсутствием значимых различий по F-критерию (p>0,05) и малыми значениями эффекта (d<0,2) (см. табл. 1).
В скорректированных выборках, сопоставимых по возрасту и полу (АКк и БАКк), при анализе количественных показателей МПКТ получены следующие результаты. Среднее значение T-критерия L1/L2 в группе АКк составило −0,797 (SD=1,250), в группе БАКк было равно −0,884 (SD=1,496) (F=0,091, p=0,763, d=0,063). Среднее значение Z-критерия L1/L2 в группе АКк было −0,617 (SD=1,231), в группе БАКк составило −0,601 (SD=1,193) (F=0,004, p=0,949, d=0,013). Среднее значение МПКТ для L1 в группе АКк — 146,804 (SD=39,395), в группе БАКк — 136,413 (SD=38,211) (F=1,649, p=0,202, d=0,268). Для L2 средние значения МПКТ в группе АКк и в группе БАКк были 144,783 (SD=39,360) и 137,587 (SD=39,189) соответственно (F=0,772, p=0,382, d=0,183). Среднее значение T-критерия шейки бедра в группе АКк составило −0,2 (IQR: −1,4; 0,8), в группе БАКк — 0,0 (IQR: −0,9; 1,1) (H=0,679, p=0,410, ε2=0,007). Среднее значение Z-критерия шейки бедра в группе АКк было −0,171 (SD=1,100), в группе БАКк — 0,179 (SD=1,068) (F=2,394, p=0,125, d=0,323). Медиана МПКТ для шейки бедра в обеих группах равнялась 0,8 (IQR: 0,7; 0,9) (H=0,085, p=0,771, ε2=0,001). Таким образом, анализ количественных показателей МПКТ в скорректированных группах АКк и БАКк также не выявил достоверных различий по T-критерию, Z-критерию и средним значениям МПКТ для поясничного отдела позвоночника (L1, L2) и шейки бедра (см. табл. 2).
Влияние антиконвульсантов разных поколений на минеральную плотность костной ткани
Среднее количество лет приема антиконвульсантов в подгруппе АК1 составило 11,850 (SD=9,542) года, в подгруппе АК2 — 7,814 (SD=4,950) года, что указывает на достоверно более продолжительную терапию традиционными антиконвульсантами (F=7,577, p=0,007, d=0,531).
При оценке категориальных показателей изменений МПКТ в подгруппе АК1 нормальные показатели плотности костной ткани выявлены у 19 (47,5%) пациентов, снижение до уровня остеопении — у 15 (37,5%), снижение до уровня остеопороза — у 6 (15%) пациентов. В подгруппе АК2 показатели плотности костной ткани в пределах нормы выявлены у 34 (57,63%) обследованных, снижение до уровня остеопении — у 17 (28,21%), снижение до уровня остеопороза — у 8 (13,56%) человек. Проведенный анализ частоты и степени изменений МПКТ в отношении поколений антиконвульсантов не выявил статистически значимых различий в сравниваемых подгруппах АК1 и АК2 (χ2=1,048, p=0,592, V=0,103) (см. табл. 3).
При анализе количественных показателей МПКТ по данным КТ-денситометрии установлены статистически значимые различия в подгруппах АК1 и АК2 по таким показателям, как Z-критерий L1/L2 (F=5,247, p=0,024, d=0,459), МПКТср L1 (F=4,279, p=0,041, d=0,426) и МПКТср L2 (F=4,690, p=0,033, d=0,445), что может указывать на более низкий уровень минерализации костной ткани у пациентов, принимающих традиционные антиконвульсанты. Однако по остальным КТ-показателям — T-критерий L1/L2 (F=3,518, p=0,064, d=0,385), а также T-критерий шейки бедра (F=2,477, p=0,119, d=0,324), Z-критерий шейки бедра (F=0,743, p=0,391, d=0,177) и МПКТср шейки бедра (F=2,027, p=0,158, d=0,303) — статистически значимые различия не были выявлены (см. табл. 3).
При сопоставлении показателей КТ-денситометрии в подгруппах АК1 и АК2 с группой здоровых участников (БАК) выявлено более выраженное снижение показателей МПКТ в подгруппе пациентов, получающих традиционные антиконвульсанты (АК1) (табл. 4).
Таблица 4. Сравнение показателей минеральной плотности костной ткани у пациентов, принимающих традиционные антиконвульсанты и антиконвульсанты нового поколения, а также здоровых участников
Подгруппа | Т-кр., L1/L2 (LS means [95% ДИ]) | Z-кр., L1/L2 (LS means [95% ДИ]) | МПКТср, L1 (LS means [95% ДИ]) | МПКТср, L2 (LS means [95% ДИ]) | T-кр., ШБ (LS means [95% ДИ]) | Z-кр., ШБ (LS means [95% ДИ]) | МПКТср, ШБ (LS means [95% ДИ]) |
АК2 | −0,539 [−1,062; −0,016] | −0,198 [−0,643; 0,248] | −0,043 [−0,555; 0,470] | 0,030 [−0,381; 0,442] | |||
БАК | −0,884 [−1,285; −0,483] | −0,601 [−0,942; −0,259] | −0,119 [−0,512; 0,274] | 0,179 [−0,137; 0,494] | |||
АК1 | −1,163 [−1,787; −0,539] | −1,212 [−1,743; −0,681] | −0,837 [−1,449; −0,226] | −0,457 [−0,948; 0,034] | |||
Pr>F (Model) | 0,304 | 0,018 | 0,222 | 0,279 | 0,100 | 0,101 | 0,503 |
Значимость | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Примечание: L1 — 1-й поясничный позвонок; L2 — 2-й поясничный позвонок; LS means (Least Squares means) — среднее по методу наименьших квадратов; Pr>F (Model) — уровень значимости (p), при р<0,05 свидетельствует о статистической значимости эффекта; Т-кр. — Т-критерий; Z-кр. — Z-критерий; АК1 — подгруппа больных, принимающих традиционные антиконвульсанты; АК2 — подгруппа больных, принимающих антиконвульсанты нового поколения; БАК — группа здоровых добровольцев, не принимающих антиконвульсанты; ДИ — доверительный интервал; МПКТср — средний показатель минеральной плотности костной ткани; ШБ — шейка бедренной кости.
Анализ КТ-показателей МПКТ позволил сделать вывод, что различие в величинах Z-критерия L1/L2 является статистически значимым (p=0,018). Остальные показатели, включая T-критерий и МПКТср, не продемонстрировали статистически значимых различий между группами (p>0,05). Результаты свидетельствуют о значительном снижении МПКТ в подгруппе пациентов, принимающих традиционные антиконвульсанты (АК1), по сравнению с АК2 и БАК. Полученные данные могут указывать на потенциально более негативное влияние антиконвульсантов традиционной генерации на плотность костной ткани. При этом не было зафиксировано отрицательного воздействия антиконвульсантов нового поколения на МПКТ, напротив, они показали более высокую степень минерализации по сравнению с группой контроля.
Влияние длительности приема антиконвульсантов на минеральную плотность костной ткани
Анализ изменений МПКТ в зависимости от длительности приема антиконвульсантов выявил: средняя продолжительность приема антиконвульсантов у пациентов с нормальной плотностью костной ткани составила 8,7 года, со снижением МПКТ до уровня остеопении — 10,7 года, до уровня остеопороза — 8,5 года. Статистически значимых различий по длительности приема антиконвульсантов между пациентами с разными уровнями плотности костной ткани не обнаружено (pнорма − ростеопения = 0,091, рнорма − ростеопороз= = 0,323, ростеопения − ростеопороз = 0,775) (рис. 2).
Рисунок 2. Изменения минеральной плотности костной ткани в зависимости от длительности приема антиконвульсантов (АК).
Источник: Сивакова и соавт., 2025.
С целью оценки связи длительности приема антиконвульсантов и МПКТ с учетом ковариат «пол» и «возраст» участников был проведен анализ множественной линейной регрессии (табл. 5). Для T-критерия L1/L2 длительность приема антиконвульсантов не имела статистически значимого влияния (p=0,171), в то время как возраст оказывает значительное влияние (p=0,001). Это свидетельствует о том, что возраст является основным фактором, влияющим на T-критерий L1/L2, а длительность приема антиконвульсантов не играет значительной роли, модель объясняет 14% вариации (R2=0,14). Для Z-критерия L1/L2 была показана статистически значимая отрицательная связь с длительностью приема антиконвульсантов (p=0,005), тогда как возраст не оказал значительного влияния (p=0,682). Полученные данные могут указывать на то, что длительность приема антиконвульсантов снижает уровень Z-критерия L1/L2, при этом модель объясняет 8,7% вариации (R2=0,087). Для показателя среднего значения МПКТ на уровне L1 длительность приема антиконвульсантов продемонстрировала тенденцию к значимости (p=0,053), в то же время возраст оказал значительное влияние (p<0,001). Это подчеркивает, что возраст является ключевым фактором, а длительность приема антиконвульсантов имеет слабую ассоциацию, модель объясняет 28,6% вариации (R2=0,286). Среднее значение МПКТ на уровне L2 имело связь с длительностью приема на уровне незначимости (p=0,132), а возраст снова оказался значимым (p<0,001) и остается важным фактором, объяснительная способность модели составила 22,4% (R2=0.224). Для T-критерия шейки бедра модель объясняет 8,3% вариации (R2=0,083), при этом длительность не имеет влияния (p=0,146), а возраст остается значимым (p=0,026). При анализе Z-критерия шейки бедра модель продемонстрировала очень низкую объяснительную способность (R2=0,028) и ни один из факторов не показал значимого влияния. Для среднего значения МПКТ шейки бедра длительность приема антиконвульсантов была не значима (p=0,083), в то время как возраст показал значимое влияние p=0,035). Это указывает на слабую связь с длительностью приема антиконвульсантов, тогда как возраст продолжает оставаться значимым фактором, модель объясняет 8,8% вариации (R2=0,088).
Таблица 5. Регрессионный анализ связи длительности приема антиконвульсантов и показателей минеральной плотности костной ткани по данным КТ-денситометрии с учетом ковариат «пол» и «возраст»
Параметр | R2 | Длительность приема (p-value) | Возраст (p-value) | Пол (p-value) | Заключение |
T-критерий, L1/L2 | 0,14 | 0,171 (незначимо) | 0,001 (значимо) | 0,270 (незначимо) | Длительность не связана, возраст влияет |
Z-критерий, L1/L2 | 0,087 | 0,005 (значимо) | 0,682 (незначимо) | 0,583 (незначимо) | Длительность значимо связана (отрицательная связь) |
MПKТср, L1 | 0,286 | 0,053 (на грани значимости) | <0,001 (значимо) | 0,129 (незначимо) | Длительность — слабая связь, возраст — ключевой фактор |
MПKТср, L2 | 0,224 | 0,132 (незначимо) | <0,001 (значимо) | 0,278 (незначимо) | Длительность не связана, возраст влияет |
T-критерий, ШБ | 0,083 | 0,146 (незначимо) | 0,026 (значимо) | 0,406 (незначимо) | Длительность не связана, возраст влияет |
Z-критерий, ШБ | 0,028 | 0,119 (незначимо) | 0,921 (незначимо) | 0,752 (незначимо) | Нет связи с длительностью и возрастом |
MПKТср, ШБ | 0,088 | 0,083 (незначимо) | 0,035 (значимо) | 0,872 (незначимо) | Нет связи с длительностью, возраст значим |
Примечание: L1 — 1-й поясничный позвонок; L2 — 2-й поясничный позвонок; p-value — уровень значимости, при р<0,05 свидетельствует о статистической значимости эффекта; R2 — коэффициент детерминаци; МПКТср — средний показатель минеральной плотности костной ткани; ШБ — шейка бедренной кости. Жирным шрифтом выделены значимые показатели.
Влияние длительности терапии антиконвульсантами на развитие переломов
Проведен анализ связи между продолжительностью приема антиконвульсантов и наличием переломов в анамнезе в группе АК, где были выделены 2 подгруппы пациентов. Первую подгруппу составили 36 человек с переломами в анамнезе, вторую подгруппу — 64 человека без переломов в анамнезе. В подгруппе пациентов с переломами в анамнезе длительность приема антиконвульсантов составила 14 (8–15) лет, это статистически больше (U=50,5, p<0,001) по сравнению с пациентами без переломов — 5 (3–8) лет (рис. 3).
Рисунок 3. Взаимосвязь длительности приема антиконвульсантов (АК) и наличия переломов в анамнезе.
Источник: Сивакова и соавт., 2025.
При этом в контрольной группе (БАК) у 16 (27,6%) человек отмечались переломы в анамнезе, у 42 (72,4%) человек переломов не было. У всех здоровых участников имеются указания на травмирующий механический фактор перелома. Тем не менее группы БАК и АК по данному показателю статистически значимых различий в частоте переломов не имели (χ2=0,205, p=0,651).
При выполнении многофакторной логистической регрессии с целью оценки влияния длительности приема АК на развитие переломов с поправкой на пол и возраст выявлено, что R-квадрат составляет 0,103, следовательно, полученная модель может объяснить только 10% выявленных случаев переломов в анамнезе. Также полученная модель продемонстрировала отсутствие статистически значимой связи между полом, возрастом участников и наличием переломов в анамнезе (B=−0,86, p=0,381 и В=0,16, p=0,871 соответственно), но подтвердила статистически значимую связь между продолжительностью приема антиконвульсантов и развитием переломов (В=0,295, p=0,03).
Для более точного определения взаимосвязи между вероятностью переломов и длительностью приема антиконвульсантов был выполнен ROC-анализ (рис. 4).
Рисунок 4. ROC-кривая, характеризующая зависимость вероятности развития переломов от длительности приема антиконвульсантов.
Источник: Сивакова и соавт., 2025.
Площадь под ROC-кривой составила 0,769±0,052 при 95% ДИ: 0,667–0,870 (см. рис. 4). Полученная модель демонстрирует статистически значимую зависимость вероятности развития переломов от длительности приема антиконвульсантов (p<0,001).
В ходе анализа специфичности и чувствительности модели было установлено, что пороговое значение показателя «длительность приема антиконвульсантов» в точке cut-off, которому соответствовало наивысшее значение индекса Юдена, составило 10 лет (рис. 5, табл. 6). Это позволяет прогнозировать вероятность развития переломов у больных эпилепсией при длительности приема антиконвульсантов ≥10 лет. Чувствительность и специфичность итоговой модели были использованы для выбора линии отсечения: наибольшие значения одновременно по обеим характеристикам составили 72,2 и 78,1% соответственно (см. табл. 6).
Рисунок 5. Анализ чувствительности и специфичности ROC-модели в зависимости от пороговых значений длительности приема антиконвульсантов (АК) в группе больных эпилепсией.
Источник: Сивакова и соавт., 2025.
Таблица 6. Пороговые значения длительности приема антиконвульсантов и вероятности развития переломов согласно RОC-модели с учетом чувствительности и специфичности
Порог | Чувствительность (%) | Специфичность (%) | PPV | NPV |
14 | 52,8 | 87,5 | 70,4 | 76,7 |
13 | 55,6 | 82,8 | 64,5 | 76,8 |
12 | 58,3 | 82,8 | 65,6 | 77,9 |
11 | 63,9 | 81,2 | 65,7 | 80,0 |
10 | 72,2 | 78,1 | 65,0 | 83,3 |
9 | 72,2 | 75,0 | 61,9 | 82,8 |
8 | 75,0 | 71,9 | 60,0 | 83,6 |
7 | 77,8 | 64,1 | 54,9 | 83,7 |
6 | 86,1 | 60,9 | 55,4 | 88,6 |
Примечание: NPV — отрицательное прогностическое значение; PPV — положительное прогностическое значение. Жирным шрифтом выделены наибольшие значения одновременно по обеим характеристикам (чувствительность и специфичность).
Результаты ROC-анализа свидетельствуют о значительном влиянии продолжительности приема антиконвульсантов на риск переломов у пациентов. Установлено, что при увеличении длительности приема антиконвульсантов статистически значимо увеличивается вероятность переломов. Полученные результаты подчеркивают важность не только эффективности противоэпилептической терапии, но и ее длительности при рассмотрении потенциальных рисков и нежелательных эффектов.
ОБСУЖДЕНИЕ
Остеопороз представляет собой значительную проблему общественного здравоохранения с серьезными последствиями для здоровья населения и экономики [8, 18]. Несмотря на ожидания, результаты данного исследования не показали статистически значимых различий (χ2=0,294, p=0,863, V=0,043) в снижении МПКТ между пациентами, длительно принимающими антиконвульсанты (группа АК), и здоровыми участниками, никогда не принимавшими антиконвульсанты (группа БАК). Анализ КТ-показателей МПКТ выявил, что средние значения T-критерия и Z-критерия L1/L2, а также средние значения МПКТ L1 и L2 в обеих группах находились в сопоставимых диапазонах, что подтверждается отсутствием значимых различий по F-критерию (p>0,05) и малыми значениями эффекта (d<0,2). Таким образом, результаты исследования демонстрируют, что между группами АК и БАК нет значимых различий в изменениях МПКТ. Это противоречит результатам многих эпидемиологических исследований, свидетельствующим о негативном влиянии антиконвульсантов на МПКТ [19]. Учитывая, что группы АК и БАК были неоднородны по половому и гендерному составу, были выделены скорректированные выборки, сопоставимые по полу и возрасту. Важно подчеркнуть, что сопоставимость групп по ключевым демографическим характеристикам минимизирует влияние потенциальных искажений и повышает достоверность результатов исследования. Таким образом, был проведен дополнительный анализ на скорректированных выборках здоровых участников (БАКк) и принимающих антиконвульсанты (АКк) для более точной оценки влияния продолжительности приема антиконвульсантов на изменения МПКТ. Однако анализ количественных показателей МПКТ в скорректированных группах АКк и БАКк также не выявил достоверных различий по T-критерию, Z-критерию и средним значениям МПКТ для поясничного отдела позвоночника (L1, L2) и шейки бедра (p>0,05, d<0,2). Полученные результаты показали, что длительность терапии антиконвульсантами не оказывает значительного влияния на МПКТ, что вносит вклад в продолжающуюся дискуссию о профиле безопасности этих препаратов в отношении здоровья скелета. Нужны дальнейшие исследования с большими выборками и разнообразным демографическим составом для более глубокого понимания взаимосвязи между приемом антиконвульсантов и МПКТ, особенно с учетом индивидуальных факторов риска и патогенетических механизмов действия препаратов. Следует отметить, что приведенные результаты являются промежуточными и набор участников исследования продолжается. По завершении сбора данных мы планируем провести углубленный анализ, который позволит получить более информативные данные.
При анализе изменений МПКТ в зависимости от поколения получаемого антиконвульсанта были зафиксированы значимые различия по КТ-показателям: Z-критерий L1/L2 (F=5,247, p=0,024, d=0,459), МПКТср L1 (F=4,279, p=0,041, d=0,426) и МПКТср L2 (F=4,690, p=0,033, d=0,445). Эти данные могут свидетельствовать, что антиконвульсанты разных поколений оказывают неоднородное влияние на плотность костной ткани, что, вероятно, связано с различными механизмами действия. В частности, наблюдается тенденция к более низкому уровню плотности костной ткани у пациентов, принимающих традиционные антиконвульсанты. Это может указывать на потенциально более неблагоприятное их влияние на костную ткань и развитие патологической остеорезорбции. При этом не обнаружено отрицательного воздействия антиконвульсантов нового поколения на МПКТ, напротив, они продемонстрировали более высокую степень минерализации по сравнению с группой контроля. Однако при сравнительном анализе частоты и степени изменений МПКТ статистически значимых различий между группами пациентов, принимающих традиционные антиконвульсанты (АК1) и препараты последней генерации (АК2), не обнаружено (χ2=1,048, p=0,592, V=0,103). Данные результаты согласуются с результатами исследования Hamed (2016), где также не были выявлены значимые различия изменений МПКТ в зависимости от поколения антиконвульсантов [8]. Учитывая полученные неоднородные результаты, в будущих исследованиях целесообразно провести анализ влияния конкретных групп антиконвульсантов на МПКТ с учетом их различных патогенетических механизмов действия. Такие исследования позволят глубже понять взаимосвязи между применением различных антиконвульсантов и состоянием костной ткани, что может быть важно для оптимизации терапевтических подходов и улучшения качества жизни пациентов.
Помимо поколений и различных патогенетических механизмов действия антиконвульсантов значительным фактором, влияющим на плотность костной ткани, может являться продолжительность их применения. В исследовании Fahmy и соавт. (2018) отмечается значительное увеличение риска снижения МПКТ при увеличении продолжительности противоэпилептической терапии, независимо от поколения применяемого препарата [19]. Для оценки взаимосвязи между снижением плотности костной ткани и длительностью противоэпилептической терапии были построены модели множественных регрессий. Результаты множественной линейной регрессии, в которой оценивалась связь длительности приема антиконвульсантов и МПКТ с учетом ковариат «пол» и «возраст», показали значительную отрицательную связь между длительностью приема антиконвульсантов и снижением МПКТ по Z-критерию L1/L2 (p=0,005, R2=0,087). Вместе с тем возраст и пол не обнаружили значимого влияния на Z-критерий L1/L2 (p=0,682, p=0,583 соответственно), что может быть объяснено возрастной и гендерной зависимостью этого показателя. Z-критерий учитывает средние возрастные нормы и сравнивает со стандартизированными популяционными значениями, что позволяет более точно отражать влияние внешних факторов, таких как продолжительность приема препаратов, на состояние костной ткани, принимая во внимание индивидуальные возрастные особенности каждого респондента. Также выявлена слабая связь изменений средних показателей МПКТ L1 и шейки бедра с длительностью приема антиконвульсантов (p=0,053 и p=0,083 соответственно), однако возраст имел более сильное влияние на данные показатели (p<0,001 и p=0,035 соответственно). Длительность приема антиконвульсантов не имела значимой ассоциации с изменением МПКТ по Т-критериям L1/L2 и шейки бедра, при этом возраст демонстрировал выраженное влияние на данные показатели. T-критерий сравнивает плотность костной ткани с пиковой костной массой молодых здоровых лиц, и это делает его более чувствительным к возрастным изменениям и снижает его чувствительность к изменениям, вызванным длительным приемом антиконвульсантов. Мы полагаем, что более значимая связь между длительностью приема антиконвульсантов и Z-критерием по сравнению с T-критерием может быть объяснена тем, что Z-критерий лучше отражает влияние внешних факторов на костную ткань, в том числе длительность приема антиконвульсантов, принимая во внимание возрастные изменения по умолчанию для каждого респондента.
Полученные промежуточные результаты подчеркивают необходимость более глубокого изучения влияния длительной терапии антиконвульсантами на изменения МПКТ с учетом как возрастных и гендерных, так и терапевтических факторов у пациентов психоневрологического профиля, у которых одним из факторов может быть длительный прием антиконвульсантов по разным показаниям. Кроме того, понимание взаимосвязей между применением антиконвульсантов и состоянием костной ткани может способствовать разработке профилактических стратегий, направленных на поддержание здоровья костей у пациентов, длительно принимающих данные препараты. Это, в свою очередь, может улучшить качество жизни пациентов, снизив риск переломов и связанных с ними осложнений. Таким образом, данное исследование имеет значительный потенциал для улучшения проведения исследований, направленных на изучение влияния антиконвульсантов на МПКТ и развития патологической остеорезорбции.
В соответствии с рекомендациями Национального фонда остеопороза (National Osteoporosis Foundation, NOF), лица, имеющие перелом в анамнезе, входят в группу повышенного риска по остеопорозу [20]. Однако мы не обнаружили исследований, изучающих взаимосвязь между длительностью противосудорожной терапии и переломами. В нашем исследовании представлены данные о связи между длительностью приема антиконвульсантов и наличием переломов в анамнезе у больных эпилепсией. В подгруппе пациентов с переломами в анамнезе продолжительность противосудорожной терапии составила 14 (8–15) лет, что значимо больше (p(U)<0,001), чем в подгруппе пациентов без переломов (64 человека), — 5 (3–8) лет. Полученные результаты свидетельствуют о том, что длительность приема антиконвульсантов является потенциальным фактором риска развития переломов у больных эпилепсией и другими нейропсихологическими расстройствами, требующими применения противосудорожных препаратов. Отсутствие таких оценок в предыдущих исследованиях подчеркивает критический пробел, требующий дальнейшего изучения того, как продолжительность противоэпилептической терапии влияет на МПКТ и риск переломов. Исследования с последующей разработкой стратегий ведения пациентов, принимающих антиконвульсанты, помогут снизить риски остеопоротических переломов и улучшить качество жизни пациентов.
Ограничения
Представленные данные являются промежуточным результатом исследовательского проекта «Влияние антиконвульсантов на развитие остеопороза у больных эпилепсией». Распределение по возрасту и полу в группах существенно различается, что может быть важно при анализе результатов и интерпретации данных исследования. Однако окончательная выборка исследования будет включать участников в группы с относительно равным распределением по возрасту и полу, и каждая группа будет включать равное соотношение лиц женского и мужского пола в двух возрастных категориях (молодой возраст — 21–40 лет, средний возраст — 41–60 лет соответственно классификации ВОЗ). Антиконвульсанты представляют собой гетерогенную группу лекарственных средств, и результаты, описанные в данной статье, будут дополнительно уточнены для отдельных препаратов по мере продолжения исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования показали, что у пациентов с эпилепсией не выявлено статистически значимых различий в снижении МПКТ по сравнению со здоровыми участниками, что не согласуется с результатами предыдущих исследований влияния антиконвульсантов на МПКТ. В исследовании также получены противоречивые данные о влиянии длительности приема антиконвульсантов на динамику МПКТ. Однако было установлено, что длительный прием антиконвульсантов связан с повышенным риском переломов. Результаты исследования подчеркивают важность дальнейшего изучения влияния противоэпилептической терапии на здоровье костной ткани и необходимость разработки стратегий минимизации риска переломов. Разработка комплекса мер профилактики остеопороза, индуцированного противосудорожными препаратами, является важной задачей, поскольку основными целями здравоохранения остаются профилактика заболеваний, сохранение качества жизни и трудоспособности населения.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию до публикации.
Финансирование: Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научного проекта № 23-25-00104.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
Наталия Александровна Сивакова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
Автор, ответственный за переписку.
Email: dr.sivakovan@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-9930-0892
SPIN-код: 4309-8739
MD, Cand. Sci. (Med.), Lead Researcher, Department of Treatment of Patients with Exogenous Organic Disorders and Epilepsy
Россия, Санкт-ПетербургИрина Викторовна Абрамова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
Email: iravictorovna.ne@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0008-4102-0725
SPIN-код: 2232-0655
Laboratory Researcher, Department of Treatment of Patients with Exogenous Organic Disorders and Epilepsy
Россия, Санкт-ПетербургИрина Юрьевна Трухина
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
Email: ish080298@gmail.com
ORCID iD: 0009-0005-4721-1977
Clinical resident, Department of Treatment of Patients with Exogenous Organic Disorders and Epilepsy
Россия, Санкт-ПетербургВарвара Павловна Рыбасова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
Email: varvara-rybasova@mail.ru
ORCID iD: 0009-0001-7692-7051
Radiologist, Radiological diagnostics department
Россия, Санкт-ПетербургМихаил Юрьевич Сорокин
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
Email: m.sorokin@list.ru
ORCID iD: 0000-0003-2502-6365
SPIN-код: 7807-4497
Scopus Author ID: 57191369987
ResearcherId: AAN-5757-2020
MD, Cand. Sci. (Med.), Academic Secretary, Lead Researcher, The Integrative Pharmaco-psychotherapy of Patients with Mental Disorders Department
Россия, Санкт-ПетербургЕвгений Дмитриевич Касьянов
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
Email: ohkasyan@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-4658-2195
SPIN-код: 4818-2523
Scopus Author ID: 57205549541
MD, Cand. Sci. (Med.), Senior Researcher, Department of social neuropsychiatry
Россия, Санкт-ПетербургЛариса Викторовна Лукина
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
Email: larisalu@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-8500-7268
SPIN-код: 4693-5577
MD, Cand. Sci. (Med.), Lead Researcher, Head of the Department of Neuroimaging Research
Россия, Санкт-ПетербургВладимир Алексеевич Михайлов
V.M. Bekhterev National Medical Research Centre for Psychiatry and Neurology
Email: vladmikh@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-7700-2704
MD, Dr. Sci. (Med.), Chief Scientific Researcher, Head of the Institute of Neuropsychiatry
Россия, Санкт-ПетербургГалина Элевна Мазо
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
Email: galina-mazo@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-7036-5927
MD, Dr. Sci. (Med.), Chief Scientific Researcher, Deputy Director for Innovative Scientific Development, Head of the Institute of Translational Psychiatry
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Kindras MN, Ermakova AE. [Osteoporos is a multidisciplinary problem of outpatient doctors]. In: Problema realizacii mul’tidisciplinarnogo podhoda k pacientu v sovremennom zdravoohranenii: Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Kursk: Kurskij gosudarstvennyj medicinskij universitet; 2019. p. 51–62. Russian.
- Chandrasekaran V, Pasco JA, Stuart AL, et al. Anticonvulsant use and bone health in a population-based study of men and women: cross-sectional data from the Geelong Osteoporosis Study. BMC Musculoskelet Disord. 2021;22(1):172. doi: 10.1186/s12891-021-04042-w
- Fiest KM, Sauro KM, Wiebe S, et al. Prevalence and incidence of epilepsy: a systematic review and meta-analysis of international studies. Neurology. 2017;88(3):296–303. doi: 10.1212/WNL.0000000000003509
- Thijs RD, Surges R, O’Brien TJ, et al. Epilepsy in adults. Lancet. 2019;393(10172):689–701. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32596-0
- Manford M. Recent advances in epilepsy. J Neurol. 2017;264(8):1811–1824. doi: 10.1007/s00415-017-8394-2
- Zhidkova IA, Kaznacheeva TV, Demidova EYu, et al. [Molecular mechanisms responsible for the impact of antiepileptic therapy on bone mineral density of epileptic patients]. Nevrologija, nejropsihiatrija, psihosomatika. 2016;(1S):59–65. Russian. doi: 10.14412/2074-2711-2016-1S-59-65
- Hamed SA, Moussa EM, Youssef AH, et al. Bone status in patients with epilepsy: relationship to markers of bone remodeling. Front Neurol. 2014;5:142. doi: 10.3389/fneur.2014.00142
- Hamed SA. Markers of bone turnover in patients with epilepsy and their relationship to management of bone diseases induced by antiepileptic drugs. Expert Rev Clin Pharmacol. 2016;9(2):267–286. doi: 10.1586/17512433.2016.1123617
- Suljic EM, Mehicevic A, Mahmutbegovic N. Effect of Long-term Carbamazepine Therapy on Bone Health. Med Arch. 2018;72(4):262–266. doi: 10.5455/medarh.2018.72.262-266
- Pilotto C, Liu JF, Walker DA, et al. Seizure characteristics and the use of anti-epileptic drugs in children and young people with brain tumours and epileptic seizures: Analysis of regional paediatric cancer service population. Seizure. 2018;58:17–21. doi: 10.1016/j.seizure.2018.03.016
- Arora E, Singh H, Gupta YK. Impact of antiepileptic drugs on bone health: Need for monitoring, treatment, and prevention strategies. J Family Med Prim Care. 2016;5(2):248–253. doi: 10.4103/2249-4863.192338
- Koshy G, Varghese RT, Naik D, et al. Derangements in bone mineral parameters and bone mineral density in south Indian subjects on antiepileptic medications. Ann Indian Acad Neurol. 2014;17(3):272–276. doi: 10.4103/0972-2327.138489
- Singla S, Kaushal S, Arora S, et al. Bone Health in Patients with Epilepsy: A Community-based Pilot Nested Case-control Study. Ann Indian Acad Neurol. 2017;20(4):367–371. doi: 10.4103/aian.AIAN_216_17
- Schousboe JT, Binkley N, Leslie WD. Liver enzyme inducing anticonvulsant drug use is associated with prevalent vertebral fracture. Osteoporos Int. 2023;34(10):1793–1798. doi: 10.1007/s00198-023-06820-9
- Dussault PM, McCarthy D, Davis SA, et al. High prevalence of vertebral fractures in seizure patients with normal bone density receiving chronic anti-epileptic drugs. Osteoporos Int. 2021;32(10):2051–2059. doi: 10.1007/s00198-021-05926-2
- Carpels A, de Smet L, Desplenter S, et al. Falls Among Psychiatric Inpatients: A Systematic Review of Literature. Alpha Psychiatry. 2022;23(5):217–222. doi: 10.5152/alphapsychiatry.2022.21735
- Marchenkova LA, Dobritsyna MA, Badalov NG, et al. [Analysis of the effectiveness and clinical prospects of non-medicinal methods of treatment and prevention of osteoporosis]. Osteoporoz i osteopatii. 2016;19(2):88–89. Russian. doi: 10.14341/osteo2016288-89
- Siniscalchi A, Murphy S, Cione E, et al. Antiepileptic Drugs and Bone Health: Current Concepts. Psychopharmacol Bull. 2020;50(2):36–44.
- Fahmy EM, Rashed LA, Ismail RS, et al. Evaluation of bone health among epileptic patients using biochemical markers and DEXA scan: an Egyptian study. Egypt J Neurol Psychiatr Neurosurg. 2018;54(1):10. doi: 10.1186/s41983-018-0014-2
- LeBoff MS, Greenspan SL, Insogna KL, et al. The clinician’s guide to prevention and treatment of osteoporosis. Osteoporos Int. 2022;33(10):2243. doi: 10.1007/s00198-022-06479-8
Дополнительные файлы