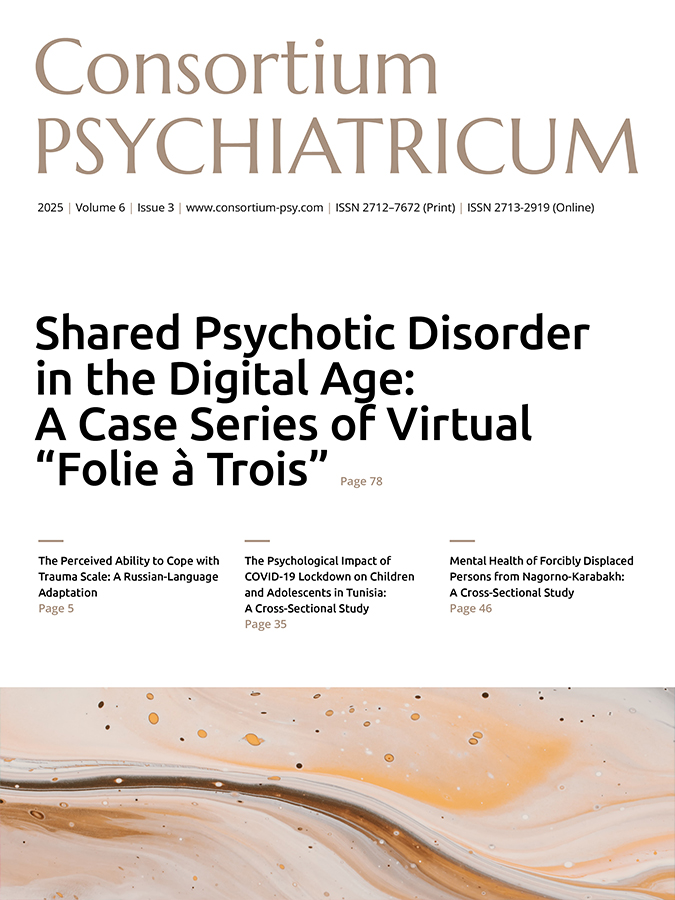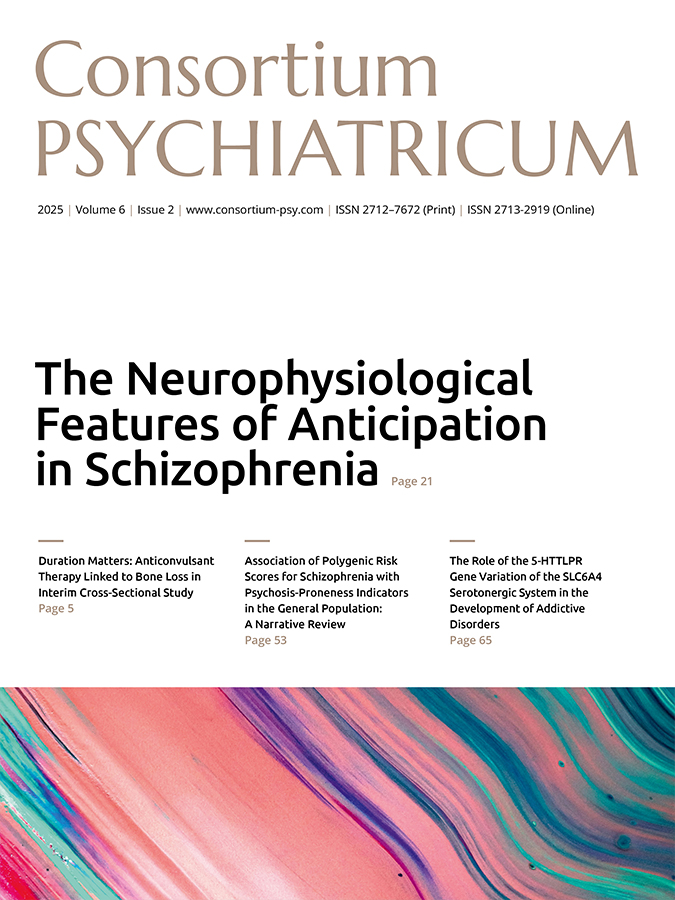Нейрофизиологические особенности антиципации при шизофрении: исследование потенциалов мозга, связанных с событиями
- Авторы: Рабинович Э.И.1,2, Телешева К.Ю.1
-
Учреждения:
- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России
- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
- Выпуск: Том 6, № 2 (2025)
- Страницы: 21-34
- Раздел: ИССЛЕДОВАНИЕ
- Дата подачи: 22.07.2024
- Дата принятия к публикации: 28.04.2025
- Дата публикации: 06.07.2025
- URL: https://consortium-psy.com/jour/article/view/15558
- DOI: https://doi.org/10.17816/CP15558
- ID: 15558
Цитировать
Аннотация
ВВЕДЕНИЕ: Известно, что расстройства психической деятельности у больных шизофренией могут быть обусловлены нарушениями актуализации прошлого опыта в процессе антиципации (прогнозирования), которые приводят к нарушениям построения прогноза, сопоставления поступающей сенсорной информации с прогнозом и коррекции прогноза. Ранее было показано, что у здоровых людей вероятность ожидаемого события влияет на компоненты вызванных потенциалов головного мозга. Однако до сих пор не изучено, как изменение вероятности ожидаемого стимула влияет на поведение и мозговые ответы у лиц с шизофренией.
ЦЕЛЬ: Сравнить влияние вероятности событий на характеристики мозговых потенциалов у пациентов с шизофренией и здоровых людей.
МЕТОДЫ: В исследование были включены психически здоровые лица и больные шизофренией мужского пола. При выполнении участниками саккадической задачи в парадигме пространственной сигнализации в условиях разновероятностного (50 и 80%) предъявления целевого стимула регистрировались электроэнцефалограммы. Проанализированы достимульные (условная негативная волна) и постстимульные (негативность рассогласования и Р3) компоненты связанных с событиями потенциалов мозга при предъявлении двух типов целевых стимулов: стандартные (предъявляемые с той же стороны, что и сигнальный стимул) и девиантные (предъявляемые с противоположной стороны) в условиях 50 и 80% вероятности совпадения стимулов.
РЕЗУЛЬТАТЫ: В исследовании приняли участие 20 психически здоровых лиц и 18 больных шизофренией. У психически здоровых лиц амплитуда условной негативной волны увеличивалась при высокой вероятности совпадения стимулов, амплитуда негативности рассогласования и компонента P3 была выше при девиантных стимулах в условиях высокой (80%) вероятности. У пациентов с шизофренией изменение вероятности не оказывало влияния на амплитуду условной негативной волны, негативности рассогласования и P3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Характеристики связанных с событиями потенциалов мозга у больных шизофренией указывают на наличие у них нарушений процессов антиципации.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Теоретические и экспериментальные исследования показали, что психические расстройства у больных шизофренией частично обусловлены нарушением актуализации прошлого опыта [1, 2]. Опора на опыт является одним из основных условий антиципации — процесса предвосхищения или опережающего познания явлений. В связи с этим изучение процессов антиципации необходимо для понимания механизмов развития психопатологической симптоматики у больных шизофренией. В последние годы для объяснения механизмов антиципации и симптомов шизофрении часто используется теория прогностического кодирования [3, 4]. Согласно этой теории, мозг представляет собой иерархически организованную систему, которая осуществляет вероятностно организованные (байесовские) выводы о будущих, постоянно обновляющихся событиях путем сравнения поступающей сенсорной информации с предшествующими предсказаниями с целью минимизации ошибок прогнозирования — расхождений между прогнозами и сенсорными данными [5, 6]. У пациентов с шизофренией патологические изменения в областях мозга, вовлеченных в прогностическое кодирование, приводят к нарушению процессов в сенсорных, моторных и когнитивных системах, а также системах оценки значимости и ожидания вознаграждения, что может объяснять развитие психопатологической симптоматики [4, 7, 8].
В соответствии с теорией прогностического кодирования были объяснены некоторые нейрофизиологические феномены, в частности связанные с событиями потенциалы мозга (ССП). Так, одним из основных показателей генерации ошибки прогнозирования считается феномен «негативность рассогласования» (НР). В классической методике [9] НР регистрируется в слуховой модальности при пассивном (без направления внимания) прослушивании звуковых стимулов в парадигме вероятностного предъявления (oddball). Он проявляется как негативный пик амплитуды разностной волны (полученной путем вычитания вызванного потенциала в ответ на стандартные стимулы из вызванного потенциала в ответ на девиантные стимулы) примерно через 100–250 мс после предъявления стимула. Появление НР свидетельствует, что закономерность в последовательности стимулов была распознана и отклонения от нее были зарегистрированы. Этот феномен широко рассматривается как сигнал об ошибке прогнозирования [10]. Снижение амплитуды НР является одним из наиболее устойчивых электрофизиологических признаков шизофрении [11] и основным индикатором нарушения механизмов прогностического кодирования [8, 12]. Известно, что у лиц без психических заболеваний НР в пассивном варианте парадигмы oddball не отличается от таковой в активном варианте, когда внимание субъекта направлено на стимулы [13–15]. Это подтверждает предположение, что НР отражает процессы предвнимания при различении сенсорных стимулов и автоматическом обнаружении изменений их параметров [16, 17]. Таким образом, НР может быть связана с ошибкой прогнозирования, возникающей из-за отклонения в локальных закономерностях, связанных с характеристиками стимула [18]. Зрительная НР более выражена в затылочной и теменно-височной областях [19] и также снижена у больных шизофренией [20].
Наряду с НР в активной парадигме oddball регистрируется компонент вызванного потенциала P3 — позитивный компонент, возникающий через 250–500 мс после предъявления девиантного стимула. Амплитуда P3 у пациентов с шизофренией ниже, чем у лиц без психических нарушений [21]. Считается, что НР и P3 индексируют разные этапы обнаружения несоответствий между прогнозами и сенсорными данными [22]. Если НР отражает обнаружение локальных отклонений, касающихся точечных деталей входящей информации, которые не совпадают с прогнозом (например, высота тона, яркость, контур движения), то P3 отражает обработку обобщенной информации, связанной с выбором и/или оценкой стимула, включая глобальные отклонения, обусловленные комплексными паттернами (например, различия между последовательностями из определенного количества стимулов) [18].
Отражает процессы антиципации (прогнозирования) и такой нейрофизиологический параметр, как условная негативная волна (УНВ) (contingent negative variation). УНВ характеризуется постепенным нарастанием негативного потенциала в лобно-центральных областях, возникающим между двумя взаимосвязанными стимулами: сигнальным или предупреждающим (S1) и пусковым или целевым (S2) [23]. Предполагается, что УНВ отражает подготовительные процессы, связанные с предварительной настройкой и оптимизацией систем мозга, участвующих в выполнении определенной задачи [24, 25]. Амплитуда УНВ может отражать процессы ожидания появления стимула S2, вызванные предъявлением стимула S1 [26]. При ожидании последующего стимула амплитуда увеличивается, если целевой стимул соотносился с подсказкой, и уменьшается, если целевой стимул нарушал установленные правила [27]. У пациентов с шизофренией амплитуда УНВ ниже, чем у лиц без психических расстройств. Кроме того, у этих больных обнаружено нарушение топографии УНВ [28–30]. Согласно теории прогностического кодирования, снижение амплитуды УНВ может свидетельствовать об отсутствии ожиданий и прогнозов относительно будущих событий, а также о неспособности использовать контекстуальную информацию для построения прогнозов [31].
Исследования процессов прогностического кодирования с использованием парадигмы центрального сигнала Познера (Central Cue Posner Paradigm, CCPP), в соответствии с которой пространственные стимулы-подсказки активируют формирование гипотезы относительно характеристик последующего события, подготовку двигательной реакции и дальнейшую корректировку прогноза при несовпадении, показали, что предварительное направление внимания улучшает скорость реакции и визуальное восприятие целевых объектов [32]. Кроме того, выявлено влияние вероятности совпадения целевых стимулов с подсказкой на показатели вызванных потенциалов в визуально-слуховой версии CCPP для психически здоровых лиц (использовались 50, 64/68 и 86/88% валидных — совпадение подсказки и целевого стимула — проб) [27, 33, 34]. Однако влияние вероятностной организации стимульного материала на процессы прогностического кодирования у лиц, страдающих шизофренией, остается неизученным.
Цель исследования — сравнить влияние вероятности событий на характеристики мозговых потенциалов у пациентов с шизофренией и здоровых людей.
МЕТОДЫ
Предварительные результаты настоящего исследования были впервые опубликованы нами в [35]. В статье, освещающей результаты пилотного исследования по данной теме, представлен анализ существующих методов, описана разработка и апробация методики (стимуляция, алгоритм анализа, выделение компонентов ССП). Данные пилотного исследования использованы в настоящей работе.
Дизайн исследования
Проведено поперечное (одномоментное) сравнительное исследование.
Условия проведения
Исследование проведено на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (далее — НМИЦ ПН им. В.П. Сербского) (Москва, Россия). Основную группу составили больные шизофренией, проходившие судебно-психиатрическую экспертизу в НМИЦ ПН им. В.П. Сербского в период с ноября 2022 г. по март 2023 г. В контрольную группу вошли сотрудники НМИЦ ПН им. В.П. Сербского и знакомые исследователей.
Участники
Критерии включения: в основную группу включали пациентов мужского пола с нормальным или скорректированным зрением, без признаков острого психотического состояния (для обеспечения качественной записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ)), не получавших фармакотерапию (минимум 7 суток до включения в исследование), без нейроинфекционных заболеваний в анамнезе и коморбидных психических расстройств (согласно данным медицинской документации и осмотру на момент обследования). Все пациенты проходили судебно-психиатрическую экспертизу в НМИЦ ПН им. В.П. Сербского и имели диагноз «шизофрения» (F20 по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)).
Контрольную группу составили лица мужского пола без неврологических и психических расстройств (согласно данным самоотчета). Данная группа была отобрана путем частотного сопоставления, чтобы обеспечить сходство возрастного распределения с основной группой.
Критерии невключения: в исследование не включались лица, если они не имели возможности соблюдать протокол исследования (выраженные когнитивные нарушения, затрудняющие понимание инструкции по проведению электрофизиологического исследования), у них была диагностированная алкогольная или наркотическая зависимость (наличие заболевания устанавливал лечащий врач в НМИЦ ПН им. В.П. Сербского), а также леворукие. Ведущую руку определяли непосредственно перед нейрофизиологическим обследованием на основании результатов опроса (какой рукой пациент пишет, рисует, держит зубную щетку, ножницы, спичку при зажигании, ложку при перемешивании жидкостей) и моторных проб на ведущую руку (аплодисменты, сцепленные в замок пальцы).
Критерии исключения: участники с неудовлетворительным качеством ЭЭГ-записи исключались из дальнейшего исследования.
Электроэнцефалографическое исследование
Регистрация
Регистрация электрической активности головного мозга выполнена с использованием электроэнцефалографа Neuroscan Synamps System (Compumedics, США) от 19 отведений по стандартной схеме 10–20. Референтные электроды располагались на мочках ушей, а заземляющий электрод — в точке Fpz. Сигнал ЭЭГ регистрировался с частотой дискретизации 1000 Гц и полосой пропускания 0–500 Гц.
Исследование проводили в затемненном и электрически экранированном помещении. Во время обследования, длившегося около 30 минут, участники находились в кресле с мягкой обивкой, высоким подголовником и подлокотниками, что позволяло им сохранять устойчивую позу и минимизировать дискомфорт.
Регистрацию проводили авторы исследования, имеющие более чем 15-летний опыт регистрации ЭЭГ.
Протокол исследования
Для изучения особенностей антиципации применили методику визуальной стимуляции на основе CCPP, в соответствии с которой были предложены два условия вероятности [32]. Выбор визуальной стимуляции обусловлен наибольшей изученностью процессов прогностического кодирования именно в зрительной модальности. Для предъявления визуальных стимулов использовался стимулятор STIM2 (Compumedics Neuroscan, США). Стимулы предъявляли на мониторе (диагональ 19’’, разрешение экрана 1280х1024), расположение которого (центр экрана) в вертикальной плоскости корректировали под уровень глаз участников исследования и располагали на расстоянии около 60 см от глаз. Схема предъявления была апробирована ранее [35]. Всем участникам давалась одинаковая инструкция, предлагалось выполнить саккадическую задачу — перевести взгляд на целевой стимул [32].
Перед началом основной сессии участники проходили короткую обучающую сессию, чтобы ознакомиться с процедурой исследования. В случае неправильного выполнения задания участники повторно инструктировались. Качество усвоения инструкции и процесс выполнения протокола исследования контролировали путем мониторинга электроокулографии с применением кожных электродов Ag/AgCl, размещенных у латеральных углов обоих глаз, и отслеживания верных движений глаз в ответ на стимулы. Кроме того, каналы электроокулографии использовались для определения характеристик поведенческих ответов (саккад): выделяли латентный период верных саккад с помощью алгоритма нахождения пиков, превышающих заданный порог случайных колебаний. В соответствии с направлением саккад высчитывали долю (в %) правильного и неправильного выполнения задания.
Исследование включало 5 последовательных блоков, каждый из которых содержал 45 реализаций, перерыв между блоками — 1 минута. Каждая реализация представляла из себя 4 последовательно демонстрирующихся типа стимулов: 1) установочный стимул зеленого или желтого цвета, появляющийся в центре экрана на 200 мс; 2) центральный фиксационный стимул белого цвета, появляющийся через 600–800 мс после исчезновения установочного стимула и на его месте на 900–1100 мс; 3) сигнальный стимул белого цвета, появляющийся сразу после исчезновения центрального фиксационного стимула на 5 см левее или правее последнего на 150 мс; 4) целевой стимул зеленого цвета, появляющийся через 1300–1500 мс после исчезновения сигнального стимула на расстоянии 3 см от края монитора на 1000 мс (рис. 1). Каждая реализация начиналась с нажатия участником на кнопку, которое запускало указанную последовательность из 4 стимулов. Все участники были проинструктированы при предъявлении первых трех стимулов фиксировать взгляд в центре экрана, а при предъявлении целевого стимула как можно быстрее переводить взгляд на него. После каждой реализации участники должны были возвращать взгляд в центр экрана.
Рисунок 1. Схема предъявления зрительных стимулов: А — целевой стимул появляется с той же стороны, что и сигнальный, в 80% случаев; Б — целевой стимул появляется с той же стороны, что и сигнальный, в 50% случаев.
Примечание: ASAP — без паузы.
Источник: заимствовано из [35]. © Психология. Психофизиология, 2024. Публикуется с разрешения правообладателя.
Количество реализаций было подобрано таким образом, чтобы каждый тип стимула предъявлялся необходимое и достаточное количество раз для усреднения ССП с учетом возможных артефактов [36]. Перерывы между блоками сделаны для минимизации утомления.
В исследовании использовались две экспериментальные схемы. В первой схеме установочный стимул был зеленого цвета и сигнализировал участникам (в соответствии с инструкцией), что целевой стимул будет с вероятностью 80% предъявляться с той же стороны, что и сигнальный стимул. Во второй схеме установочный стимул был желтого цвета и сигнализировал о том, что вероятность совпадения сторон сигнального и целевого стимулов равняется 50%. Целевой стимул, предъявляющийся с той же стороны, что и сигнальный, далее будет называться стандартным, предъявляющийся с другой стороны — девиантным. Таким образом, целевой стимул предъявлялся в 4 условиях: 1) совпадение с сигнальным стимулом при вероятности совпадения 80% (стандартный стимул в условии 80%) — 91 реализация; 2) несовпадение с сигнальным стимулом при вероятности совпадения 80% (девиантный стимул в условии 80%) — 25 реализаций; 3) совпадение с сигнальным стимулом при вероятности совпадения 50% (стандартный стимул в условии 50%) — 54 реализации; 4) несовпадение с сигнальным стимулом при вероятности совпадения 50% (девиантный стимул в условии 50%) — 55 реализаций.
Порядок реализаций был фиксированным (одинаковым для всех участников). Чтобы избежать эффектов последовательности, перед проведением исследования он был определен случайным образом на основе последовательности случайных чисел, сгенерированных с помощью языка программирования Python в соответствии с заданной вероятностью стимулов. В связи с тем что стимулы генерировались вероятностным образом, конечное распределение стимулов было приблизительным и могло не соответствовать заданному.
Предобработка записей
Записи ЭЭГ были отфильтрованы в диапазоне от 0 до 30 Гц. Удаление глазодвигательных артефактов производили с помощью анализа независимых компонент. После этого записи визуально проверяли на наличие артефактов. Для выделения УНВ отрезки ЭЭГ, предшествующие регулярным саккадам (с латентным периодом больше 120 мс), сегментировали на эпохи в диапазоне от −1 до 0 сек с базовой линией от −1 до −0,9 сек и усредняли для каждого участника. Затем записи ЭЭГ были преобразованы к постоянной времени, равной 5 сек, для получения медленных потенциалов. Процедура преобразования основана на том факте, что частота среза аналоговых фильтров предполагает спад коэффициента передачи всего на −3 дБ, и лишь часть медленной активности проходит через фильтр. При этом часть активности, не прошедшей через полосу заграждения фильтра, может быть восстановлена, за исключением компонента постоянного тока [37]. Анализ УНВ проводили в раннем (900–600 мс до целевого стимула) и позднем (300–0 мс до целевого стимула) интервалах, для которых были получены средние значения амплитуд.
Для постстимульных ССП записи были сегментированы в диапазоне от −0,2 до 0,7 сек от целевого стимула с базовой линией в диапазоне от −0,2 до 0 сек и усредняли для каждого участника исследования. Для выделения компонентов ССП фильтровали в диапазоне 1–7 Гц, чтобы устранить медленноволновые артефакты и наложение альфа-ритма. С целью дальнейшего анализа и минимизации избыточности данных были выбраны 9 ключевых каналов, покрывающих зоны генерации анализируемых потенциалов и наименее подверженных окулографическим и миографическим артефактам (F3, F4, Fz, C3, C4, Cz, P3, P4, Pz). Компонент P3 был идентифицирован на этих каналах как максимальный позитивный пик в интервале 220–400 мс (анализ латентности см. в табл. S1 в Приложении). Амплитуду P3 оценивали от предшествующего негативного пика (peak-to-peak amplitude) в интервале 100–300 мс, который выделяли визуально (рис. 2). Для анализа НР выделяли среднюю амплитуду в диапазоне ±50 мс от пиковой негативной амплитуды во временном интервале 100–250 мс после вычитания ССП на стандартный стимул из ССП на девиантный стимул. Данные были предварительно обработаны одним из авторов исследования (Э.И. Рабинович).
Таблица 1. Показатели саккад у психически здоровых лиц (контрольная группа) и больных шизофренией
Показатели | Контрольная группа (n=20) | Больные шизофренией (n=18) | t | р |
Латентности регулярных саккад (мс) | ||||
Стандартный 50% | 263,1 (43,3) | 273,7 (51,7) | −0,67 | 0,603 |
Девиантный 50% | 264,1 (40,3) | 280,1 (61,0) | −0,92 | 0,479 |
Стандартный 80% | 247,8 (40,1) | 266,4 (55,2) | −1,17 | 0,376 |
Девиантный 80% | 270,7 (43,6) | 281,5 (64,0) | −0,60 | 0,603 |
Ошибки саккад (%) | ||||
Стандартный 50% | 2,2 (3,6) | 10,1 (11,3) | −2,99 | 0,031 |
Девиантный 50% | 4,1 (8,2) | 7,7 (8,3) | −1,31 | 0,376 |
Стандартный 80% | 1,5 (1,3) | 7,4 (8,2) | −3,17 | 0,031 |
Девиантный 80% | 10,3 (7,2) | 5,5 (5,9) | 2,01 | 0,156 |
Опережающие и экспресс-саккады (%) | ||||
Стандартный 50% | 3,7 (6,2) | 10,8 (10,5) | −2,56 | 0,060 |
Девиантный 50% | 4,5 (6,5) | 8,9 (8,5) | −1,78 | 0,202 |
Стандартный 80% | 7,1 (8,0) | 10,7 (9,6) | −1,21 | 0,376 |
Девиантный 80% | 8,3 (7,5) | 7,6 (6,8) | 0,25 | 0,803 |
Примечание: Описание количественных признаков выполнено с указанием среднего арифметического значения (стандартное отклонение).
Рисунок 2. Волна связанного с событиями потенциала, зарегистрированная на электроде Cz. Отмечен способ измерения амплитуды (А) компонента P3.
Примечание: N2 — предшествующий негативный пик; вертикальная пунктирная линия — время предъявления стимула.
Источник: Рабинович Э.И., Телешева К.Ю., 2025.
Статистический анализ
Анализ данных проводился в программной среде для языка программирования Python (обработка ЭЭГ, поправка на множественные сравнения) и с использованием пакета статистических программ Jamovi, версия 2.3.31 (проверка нормальности, дисперсионный анализ (ANOVA), t-критерий Стьюдента). Визуализацию ССП и построение топографических карт осуществляли с помощью библиотеки MNE для языка программирования Python [38]. Чтобы определить характер распределения значений количественных признаков, применяли критерий Шапиро–Уилка (отклонений от предположений нормальности распределения не обнаружено, во всех случаях p>0,05). В этой связи описание количественных признаков выполнено с указанием среднего арифметического (стандартное отклонение).
Амплитуды компонентов ССП сравнивали посредством дисперсионного анализа с повторными измерениями с межсубъектным фактором «группа» (n=2, группа шизофрении и контрольная группа). При анализе УНВ, P3 и НР принимали во внимание следующие внутрисубъектные факторы: вероятность совпадения сигнального и целевого стимулов (n=2: 50 и 80%) и расположение электродов (n=3: фронтальные, центральные и теменные). В дополнение к этому при анализе УНВ учитывали интервал анализа (n=2: ранний (900–600 мс до периферического стимула) и поздний (300–0 мс до периферического стимула)), при анализе P3 — совпадение сигнального и целевого стимулов (n=2: стандартный и девиантный стимулы). Выбор перечисленных факторов основывается на теоретических предпосылках и используемой методике исследования антиципации.
Апостериорный анализ проводили с использованием t-критерия Стьюдента для зависимых выборок и t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Коррекция на множественные сравнения выполнена путем расчета ожидаемой доли ложных отклонений (False Discovery Rate).
Этическая экспертиза
Проведение исследования было одобрено этическим комитетом НМИЦ ПН им. В.П. Сербского (Москва) (протокол № 3 6/3 от 6 декабря 2021 г.). Все участники подписали информированное добровольное согласие на участие в исследовании.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники
В период исследования критериям отбора соответствовали 20 больных шизофренией, проходивших судебно-психиатрическую экспертизу в НМИЦ ПН им. В.П. Сербского. Всем пациентам предложено принять участие в исследовании, из них двое отказались от участия, 18 больных были включены в исследование и завершили протокол в полном объеме. Данные одного пациента исключены из анализа УНВ в связи с низким качеством ЭЭГ (большое количество медленноволновых артефактов).
Участвовать в составе контрольной группы было предложено 22 психически здоровым лицам, все были включены в исследование и завершили его в полном объеме. Однако одна запись ЭЭГ была полностью исключена из анализа в связи с функциональным состоянием участника (дремота), еще одна была исключена в связи с большим количеством артефактов. В итоге в контрольную группу вошли 20 человек.
Характеристика групп исследования
Средний возраст участников контрольной группы составил 30,4 (6,5) года, группы больных — 33,3 (6,3) года (p=0,121). У 16 больных установлен диагноз «параноидная шизофрения» (F20.0), у одного — «гебефреническая шизофрения» (F20.1), еще у одного — другой тип шизофрении (F20.8). У 15 больных длительность истории заболевания — более 5 лет, у остальных — менее 5 лет. Оценка позитивных симптомов по «Шкале оценки позитивных и негативных симптомов» (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS) в основной группе — 16,3 (5,8) балла, негативных симптомов — 18,4 (6,1) балла, общих психопатологических симптомов — 34,4 (8,3) балла.
Основные результаты
Результаты выполнения задания были проанализированы с использованием характеристик саккад при различных условиях предъявления стимулов (поведенческие данные). В табл. 1 представлены латентности регулярных саккад (латентность ≥120 мс) при переводе взгляда на целевой стимул, процент опережающих саккад (латентность <0 мс) и экспресс-саккад (латентность ≥0 мс, <120 мс) и процент ошибочных саккад, характеризующихся переводом взгляда в противоположную от периферического стимула сторону. Латентный период регулярных саккад в сравниваемых группах был сопоставим. Процент ошибок при реакции на стандартные стимулы был выше в группе лиц с шизофренией. Также у лиц с шизофренией по сравнению с контрольной группой в целом выше процент опережающих и экспресс-саккад при вероятности совпадения стимулов 50%, хотя различия не достигают критического уровня значимости (см. табл. 1). Внутригрупповой анализ показал, что в контрольной группе латентность саккад на стандартный стимул в условии 80% ниже значений показателя на девиантный стимул (t=−3,94, p=0,002). Различий в латентности саккад на стандартный и девиантный стимулы в условии 50% не выявлено (t=−0,53, p=0,599). Наибольшее количество ошибок саккад отмечено при реакции на девиантный стимул в условии 80% по сравнению с другими условиями (во всех случаях p<0,01). Вместе с тем в условиях вероятности совпадения стимулов 80% отмечено максимальное количество опережающих и экспресс-саккад. У пациентов с шизофренией статистически значимых различий в латентности саккад, проценте ошибок саккад и проценте опережающих и экспресс-саккад между условиями не обнаружено. Дисперсионный анализ с повторными измерениями выявил связь взаимодействия факторов вероятности и совпадения стимулов в контрольной группе с латентностью (F=12,74, p=0,002, частичный η2=0,401) и процентом ошибок (F=12,58, p=0,002, частичный η2=0,398), а также связь фактора вероятности с процентом опережающих и экспресс-саккад (F=11,40, p=0,003, частичный η2=0,375). Для группы пациентов с шизофренией обнаружена связь фактора совпадения с латентностью регулярных саккад (F=5,70, p=0,030, частичный η2=0,276).
Сравнение значений УНВ между группами с применением дисперсионного анализа различий не выявило. В контрольной группе обнаружен статистически значимый эффект фактора вероятности (F=9,26, p=0,009, частичный η2=0,398), а также значимое взаимодействие факторов вероятности и интервала (F=7,60, p=0,015, частичный η2=0,352). Апостериорный анализ показал отсутствие статистически значимых различий в раннем интервале УНВ между условиями вероятностей 50 и 80% (t=1,70, p=0,111). Значимые различия наблюдались в контрольной группе в позднем интервале УНВ при двух условиях (t=3,32, p=0,006). Средняя амплитуда при вероятности 50% составила −6,35 мкВ, при вероятности 80% была равна −8,46 мкВ.
Анализ НР показал значимый эффект межгруппового фактора (F=5,53, p=0,025, частичный η2=0,144). В контрольной группе различия между условиями совпадения 50 и 80% отмечены в теменной (t=3,521, p=0,022) и центральной (t=2,627, p=0,045) областях. Средняя амплитуда НР по всем анализируемым отведениям в условии 50% составила −0,17 мкВ, в условии 80% была равна −1,58 мкВ (t=3,09, p=0,007). В группе лиц с шизофренией различий между условиями вероятности 50 и 80% не обнаружено. При этом снижение НР было более выражено во фронтальных и теменных областях (при сравнении с контрольной группой в условии вероятности 80% p=0,038 и p=0,019 соответственно). Средняя амплитуда НР в условии вероятности 80% в группе больных шизофрений на фронтальных электродах составила 0,12 мкВ, на теменных равнялась −0,43 мкВ.
При анализе амплитуд компонента P3 межгрупповые различия отмечены по показателю амплитуды на девиантный стимул в условии вероятности совпадения стимулов 80% (t=3,24, p=0,012). Кроме того, различия между группами больных и психически здоровых выявлены при взаимодействии факторов вероятности и совпадения стимулов (F=4,39, p=0,044, частичный η2=0,117).
Анализ амплитуд компонента P3 в контрольной группе показал, что наибольшие различия между амплитудой на стандартный и девиантный стимулы наблюдаются во фронтальных (t=−4,93, p<0,001) и центральных (t=−5,13, p<0,001) областях. Кроме того, в контрольной группе отмечено увеличение амплитуды на девиантный стимул по сравнению со стандартным как в условии вероятности совпадения сторон стимулов 50% (t=−3,02, p=0,009), так и в условии вероятности 80% (t=−5,44, p<0,001). В группе лиц с шизофренией увеличение амплитуды на девиантный стимул по сравнению со стандартным в условии вероятности совпадения сторон 80% не выявлено. При этом амплитуда на девиантный стимул была выше, чем на стандартный стимул, в условии вероятности 50% (t=−2,32, p=0,034). Усредненные ССП для двух групп в отведении Cz представлены на рис. 3.
Рисунок 3. Связанные с событиями потенциалы мозга, усредненные для групп, на целевые стимулы на электроде Cz: А — условие вероятности 50%; Б — условие вероятности 80%.
Примечание: Пунктирная линия — время подачи стимула.
Источник: Рабинович, Телешева, 2025.
Дополнительные результаты исследования
Анализ ССП мозга у лиц с шизофренией показал вариативность амплитуд УНВ в двух условиях в отличие от контрольной группы, в которой она не была выявлена. В этой связи нами выделены две подгруппы больных: первая — 10 (59%) человек, у которых амплитуда УНВ выше в условии 50% по сравнению с 80% либо не отличается; вторая — 7 (41%) человек, у которых амплитуда УНВ выше в условии 80%. Таким образом, у больных первой подгруппы имеет место отсутствие или искажение влияния фактора вероятности на амплитуду УНВ, у больных второй подгруппы увеличение вероятности события приводит к увеличению амплитуды. Все участники контрольной группы соответствовали критерию второй подгруппы (амплитуда УНВ выше в условии 80% по сравнению с условием 50%).
Сравнение первой подгруппы и контрольной группы показало наличие эффекта межгруппового фактора с взаимодействием факторов вероятности и интервала (F=5,10, p=0,034, частичный η2 =0,182). Значимые различия между этими группами наблюдаются в позднем интервале в условии 80% (t=2,83, p=0,019). Внутри первой подгруппы факторов, ассоциированных с амплитудой УНВ, не обнаружено: различия между вероятностями не выявлены ни в раннем (t=0,093, p=0,928), ни в позднем (t=−0,40, p=0,834) интервале. Результаты анализа второй подгруппы не показали значимых различий с контрольной группой. Значимые различия внутри данной подгруппы наблюдаются в позднем интервале: средняя амплитуда в условии 50% составила −5,35 мкВ, в условии 80% — −9,88 мкВ (t=3,34, p=0,024).
Значимых различий амплитуд НР и P3 между первой и второй подгруппами не обнаружено.
Топографические карты УНВ для контрольной группы, первой и второй подгрупп лиц с шизофренией представлены на рис. 4.
Рисунок 4. Топографические карты условной негативной волны: А — контрольная группа; Б — первая подгруппа больных шизофренией (амплитуда условной негативной волны выше в условии 50% по сравнению с 80% либо не отличается); В — вторая подгруппа больных шизофренией (амплитуда условной негативной волны в условии 80% выше по сравнению с 50%).
Примечание: Левый столбец — условие вероятности 50%, правый столбец — условие вероятности 80%. Отображена усредненная амплитуда для указанных временных интервалов.
Источник: Рабинович, Телешева, 2025.
ОБСУЖДЕНИЕ
Основные результаты исследования
Обнаружены нейрофизиологические особенности антиципации при шизофрении: у больных выше в сравнении с психически здоровыми лицами процент ошибок при реакции на стандартные стимулы, а также процент опережающих и экспресс-саккад при вероятности совпадения стимулов 50%. Значимых различий в характеристиках УНВ между группами выявлено не было. Вместе с тем у больных шизофренией показаны различия в амплитудах НР и компонента P3: в группе больных шизофренией значимые различия в амплитуде НР между условиями вероятности 50 и 80% не отмечены, тогда как в контрольной группе такое различие было значимым; при вероятности совпадения стимулов 80% в группе больных шизофренией отсутствовало характерное увеличение амплитуды P3 на девиантный стимул, наблюдаемое в контрольной группе. И поведенческие, и нейрофизиологические реакции у психически здоровых лиц зависят от эффектов вероятности и типа стимула: при вероятности 80% латентность саккад ниже, возрастает количество опережающих и экспресс-саккад, а также ошибок на девиантный стимул, а поздняя фаза УНВ, амплитуда НР и P3 различались между условиями 50 и 80%, при этом наибольшая амплитуда наблюдается при девиантном стимуле в условии 80%. У лиц с шизофренией отсутствует дифференцировка поведенческих и нейрофизиологических реакций в зависимости от условий. Латентность саккад не варьируется при изменении вероятности, при этом ошибок саккад, опережающих и экспресс-саккад в целом больше, чем у психически здоровых. Изменений амплитуды УНВ, НР и P3 между условиями также не обнаружено.
Интерпретация результатов
В исследовании выявлено отсутствие связи вероятности при построении прогнозов у лиц с шизофренией. Нарушения в оценке вероятностей стимулов наблюдаются при анализе характеристик саккад. В контрольной группе при предъявления стандартного стимула в условии вероятности совпадения с сигнальным 80% ожидание его в определенном участке приводит к уменьшению латентного периода регулярных саккад и увеличению количества опережающих и экспресс-саккад. При этом при предъявлении девиантного стимула в условии вероятности 80% отмечается увеличение ошибочных ответов. Это отражает способность строить устойчивые прогнозы, основываясь на вероятностях. Латентный период регулярных саккад у лиц с шизофренией не отличается от такового у психически здоровых лиц, что согласуется с результатами ранее опубликованных исследований [39]. Однако различий между условиями у больных не отмечено, что может характеризовать отсутствие построения стойких прогнозов относительно появления стимулов при различных вероятностях. Вместе с тем у лиц с шизофренией в целом наблюдается большее количество ошибок, что может быть связано с большим количеством экспресс-саккад вследствие дисфункции префронтальной коры и тормозного контроля, что согласуется с результатами, полученными в других исследованиях [30, 40].
В норме тонкие изменения в процессах прогнозирования связаны с предварительной активацией нейрональных структур и отражаются на характеристиках УНВ [26]. У психически здоровых лиц нами обнаружено увеличение амплитуды УНВ при вероятности совпадения стимулов 80% по сравнению с условием вероятности 50%. Это согласуется с данными литературы, согласно которым информативный сигнальный стимул обусловливает более высокую амплитуду УНВ по сравнению с индифферентным [41]. Таким образом, нисходящие вероятностно организованные предсказания обеспечивают оптимизацию процессов обработки стимулов и подготовки моторного ответа [41, 42]. Амплитудный фокус УНВ у психически здоровых лиц изменялся от теменной области на раннем этапе к центрально-теменным и лобным областям на позднем этапе. Градуальное нарастание амплитуды УНВ в указанных областях может отражать процессы антиципации, связанные со зрительно-пространственным вниманием, благодаря чему отбираются значимые стимулы для последующей обработки [43].
Дополнительный анализ УНВ у больных шизофренией показал разнонаправленные изменения в двух условиях. В частности, у половины больных отмечено увеличение амплитуды УНВ при увеличении вероятности совпадения стимулов. В этой связи можно выделить два основных варианта нарушений прогнозирования у больных шизофренией: одни больше полагаются на прогнозы, чем на сенсорные данные, для других, напротив, влияние нисходящих процессов минимально, большую роль играет сенсорная информация [44, 45]. В целом полученные нами результаты подтверждают гетерогенность нарушений прогностических процессов при шизофрении [46].
НР и компонент P3 во многих работах рассматриваются как отражение реакции на несоответствие ожиданиям [12, 23, 47]. Согласно полученным нами данным, у психически здоровых лиц амплитуда НР увеличивалась в условиях вероятности 80% по сравнению с амплитудой в условиях вероятности 50%, что может характеризовать усиление генерации ошибки прогнозирования при отклонениях в условиях высокой вероятности совпадения стимулов. Амплитуда НР у лиц с шизофренией была ниже, чем в группе контроля, что согласуется с результатами исследований, указывающими на редукцию НР при шизофрении [8, 12, 48]. Наши данные показывают, что наименьшая амплитуда НР при шизофрении наблюдается в лобных и теменных отведениях. Это подтверждается выводами исследований, согласно которым автоматическая реакция на зрительный девиантный стимул модулируется лобно-затылочной сетью и наименьшая амплитуда зрительной НР у лиц с шизофренией обнаруживается в лобных и затылочно-теменных областях [49, 50].
Исходя из результатов, полученных у психически здоровых лиц, можно прийти к заключению, что увеличение вероятности появления стимула приводит к увеличению роли процессов прогнозирования и нисходящих процессов при восприятии и подготовке моторного ответа [4]. При этом не совпадающий с прогнозом стимул приводит к ошибке прогнозирования и является информативным сигналом, на основе которого дальнейшие прогнозы должны быть обновлены [8, 12]. Предполагается, что низкая амплитуда НР при шизофрении связана с тем, что в результате нарушения процессов прогнозирования и оценки вероятностей каждый стимул не является ожидаемым в рамках усвоенной последовательности и вызывает ошибку прогнозирования [4]. Наибольшая редукция амплитуды в лобных и теменных областях может быть проявлением дисфункциональной интеграции мозговых сетей, выражающейся в нарушении нисходящей модуляции префронтальной корой теменно-затылочных областей [51].
Анализ компонента P3 у психически здоровых лиц выявил увеличение амплитуды на девиантный стимул в условии вероятности совпадения стимулов 80%. В группе лиц с шизофренией наблюдается увеличение амплитуды на девиантный стимул в условии вероятности 50%, притом что в условии вероятности 80% амплитуда на девиантный стимул ниже, что отражает аберрантную оценку вероятностей [52, 53]. Это подтверждает гипотезу о том, что ошибки прогнозирования при шизофрении генерируются на стимулы, которые являются менее значимыми для предсказательных процессов (как, например, стимул, вероятность появления которого равна 50%) и связаны с нарушением способности к идентификации значимых стимулов [49, 54]. Парадигма с использованием подобных девиантных стимулов, имеющих при этом равную вероятность со стандартными, может быть новым подходом для оценки нарушений вероятностного прогнозирования и антиципации при шизофрении.
Ограничения
Результаты исследования невозможно экстраполировать на все случаи шизофрении, поскольку больные, включенные в настоящее исследование, находились вне острого психотического состояния и имели минимальные проявления позитивных симптомов.
Другим ограничением является небольшой объем выборки, что повышает риск ошибок второго рода, а также ограничивает учет внутригрупповой гетерогенности.
Для выделения пиков ССП использовали нестандартные частотные диапазоны при фильтрации, что препятствует сравнению результатов с другими исследованиями. Обусловлено это нашим стремлением получить четкие пики, не зашумленные альфа-активностью, без сильных искажений в амплитуде. Кроме того, показано, что различные фильтры не сильно искажают компонент P3 [55].
В настоящем исследовании мы не изучали связь нейрофизиологических показателей антиципации с клиническими проявлениями шизофрении и, соответственно, влияние выраженности последних на основной результат исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования указывают на значимые различия в ССП, отражающих процессы антиципации и обработки информации, у психически здоровых лиц и больных шизофренией, что согласуется с имеющимися представлениями о нарушениях процессов построения прогноза и детекции ошибки при шизофрении. У психически здоровых лиц фактор вероятности ассоциировал с амплитудой УНВ, НР и компонента P3. Это свидетельствует об эффективном использовании вероятностной информации для предсказания и подготовки моторного ответа, а также подтверждается в характеристиках саккад. Отсутствие определенного влияния фактора вероятности на амплитуды УНВ, НР и P3 у лиц с шизофренией подтверждает наличие у таких больных нарушений прогностических процессов.
Вклад авторов: Эрнест Рабинович — концептуализация, методология, проведение исследования, формальный анализ, программное обеспечение, визуализация, создание черновика рукописи, создание рукописи и ее редактирование. Клавдия Телешева — методология, проведение исследования, руководство исследованием, создание рукописи и ее редактирование.
Финансирование: Работа финансировалась Минздравом России, государственное задание № 124020800048-9 «Разработка объективных инструментальных методов экспертной оценки способности осознавать юридически значимые ситуации и руководить своими действиями у лиц с психическими расстройствами с выделением клинических, психологических и психофизиологических механизмов дисрегуляции поведения и общественной опасности».
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Дополнительная информация
Дополнительный материал к этой статье можно найти в онлайн-версии:
Таблица S1: 10.17816/CP15558-145305
Цитировать:
Рабинович Э.И., Телешева К.Ю. Нейрофизиологические особенности антиципации при шизофрении: одномоментное исследование связанных с событиями потенциалов мозга // Consortium PSYCHIATRICUM. 2025. Т. 6, № 2. CP15558. doi: 10.17816/CP15558
Об авторах
Эрнест Ильич Рабинович
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России; ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
Автор, ответственный за переписку.
Email: rabinovichernest@gmail.com
ORCID iD: 0009-0001-8300-4095
Junior Researcher, Laboratory of Clinical Neurophysiology, V. Serbsky National Medical Research Centre of Psychiatry and Narcology of the Ministry of Health of the Russian Federation; postgraduate student, Lomonosov Moscow State University
Россия, Москва; МоскваКлавдия Юрьевна Телешева
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России
Email: telesheva.k@serbsky.ru
ORCID iD: 0000-0001-5534-9320
SPIN-код: 1051-8375
Scopus Author ID: 57160360300
ResearcherId: Y-7108-2019
MD, Cand. Sci (Psychology), Senior Researcher, Laboratory of Clinical Neurophysiology
Россия, МоскваСписок литературы
- Kritskaya VP, Meleshko TK. [Patopsihologija shizofrenii]. Moscow: Institut psihologii Rossijskoj akademii nauk; 2015. 392 p. Russian.
- Samylkin DV, Tkachenko AA. [Concepts of the level violation of regulatory processes in schizophrenia: from probabilistic forecasting to predictive coding]. Rossijskij psihiatricheskij zhurnal. 2020;(5):34–46. Russian. doi: 10.24411/1560-957Х-2020-10504
- Millidge B, Seth A, Buckley CL. Predictive Coding: A Theoretical and Experimental Review [Preprint]. 2021 [cited 2025 March 2]. 56 p. Available from: https://www.researchgate.net/publication/353510198_Predictive_Coding_a_Theoretical_and_Experimental_Review. doi: 10.48550/arXiv.2107.12979
- Sterzer P, Voss M, Schlagenhauf F, et al. Decision-making in schizophrenia: A predictive-coding perspective. Neuroimage. 2019;190:133–143. doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.05.074
- Friston K. A theory of cortical responses. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2005;360(1456):815–836. doi: 10.1098/rstb.2005.1622
- Friston K. The free-energy principle: a unified brain theory? Nat Rev Neurosci. 2010;11(2):127–138. doi: 10.1038/nrn2787
- Ficco L, Mancuso L, Manuello J, et al. Disentangling predictive processing in the brain: a meta-analytic study in favour of a predictive network. Sci Rep. 2021;11(1):16258. doi: 10.1038/s41598-021-95603-5
- Liddle PF, Liddle EB. Imprecise Predictive Coding Is at the Core of Classical Schizophrenia. Front Hum Neurosci. 2022;16:818711. doi: 10.3389/fnhum.2022.818711
- Näätänen R, Gaillard AW, Mäntysalo S. Early selective-attention effect on evoked potential reinterpreted. Acta Psychol (Amst). 1978;42(4):313–329. doi: 10.1016/0001-6918(78)90006-9
- Fitzgerald K, Todd J. Making Sense of Mismatch Negativity. Front Psychiatry. 2020;11:468. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00468
- Avissar M, Xie S, Vail B, et al. Meta-analysis of mismatch negativity to simple versus complex deviants in schizophrenia. Schizophr Res. 2018;191:25–34. doi: 10.1016/j.schres.2017.07.009
- Fong CY, Law WHC, Uka T, et al. Auditory Mismatch Negativity Under Predictive Coding Framework and Its Role in Psychotic Disorders. Front Psychiatry. 2020;11:557932. doi: 10.3389/fpsyt.2020.557932
- Justen C, Herbert C. The spatio-temporal dynamics of deviance and target detection in the passive and active auditory oddball paradigm: a sLORETA study. BMC Neurosci. 2018;19(1):25. doi: 10.1186/s12868-018-0422-3
- Kompus K, Volehaugen V, Todd J, et al. Hierarchical modulation of auditory prediction error signaling is independent of attention. Cogn Neurosci. 2020;11(3):132–142. doi: 10.1080/17588928.2019.1648404
- Paavilainen P, Ilola M. Effects of attention on the processing of physical and abstract auditory regularities: An exploratory MMN study. Heliyon. 2024;10(12):e33182. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e33182
- Hesse PN, Schmitt C, Klingenhoefer S, et al. Preattentive Processing of Numerical Visual Information. Front Hum Neurosci. 2017;11:70. doi: 10.3389/fnhum.2017.00070
- Garrido MI, Kilner JM, Stephan KE, et al. The mismatch negativity: a review of underlying mechanisms. Clin Neurophysiol. 2009;120(3):453–463. doi: 10.1016/j.clinph.2008.11.029
- Coy N, Bendixen A, Grimm S, et al. Conditional deviant repetition in the oddball paradigm modulates processing at the level of P3a but not MMN. Psychophysiology. 2024;61(6):e14545. doi: 10.1111/psyp.14545
- Grundei M, Schröder P, Gijsen S, et al. EEG mismatch responses in a multimodal roving stimulus paradigm provide evidence for probabilistic inference across audition, somatosensation, and vision. Hum Brain Mapp. 2023;44(9):3644–3668. doi: 10.1002/hbm.26303
- Mazer P, Carneiro F, Domingo J, et al. Systematic review and meta-analysis of the visual mismatch negativity in schizophrenia. Eur J Neurosci. 2024;59(11):2863–2874. doi: 10.1111/ejn.16355
- Hamilton HK, Mathalon DH, Ford JM. P300 in schizophrenia: Then and now. Biol Psychol. 2024;187:108757. doi: 10.1016/j.biopsycho.2024.108757
- Liaukovich K, Ukraintseva Y, Martynova O. Implicit auditory perception of local and global irregularities in passive listening condition. Neuropsychologia. 2022;165:108129. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2021.108129
- Walter WG, Cooper R, Aldridge VJ, et al. Contingent negative variation: an electric sign of sensorimotor association and expectancy in the human brain. Nature. 1964;203:380–384. doi: 10.1038/203380a0
- Chennu S, Noreika V, Gueorguiev D, et al. Expectation and attention in hierarchical auditory prediction. J Neurosci. 2013;33(27):11194–111205. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0114-13.2013
- Kononowicz TW, Penney TB. The contingent negative variation (CNV): Timing isn’t everything. Current Opinion in Behavioral Sciences. 2016;8:231–237. doi: 10.1016/j.cobeha.2016.02.022
- Arjona A, Gómez CM. Sequential Effects in the Central Cue Posner Paradigm: On-line Bayesian Learning. In: Cognitive Electrophysiology of Attention. Cambridge: Academic Press; 2014. p. 45–57. doi: 10.1016/B978-0-12-398451-7.00004-X
- Gómez CM, Arjona A, Donnarumma F, et al. Tracking the Time Course of Bayesian Inference With Event-Related Potentials: A Study Using the Central Cue Posner Paradigm. Front Psychol. 2019;10:1424. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01424
- Kirenskaya AV, Tkachenco AA, Novototsky-Vlasov VY. The Study of the Antisaccade Performance and Contingent Negative Variation Characteristics in First-Episode and Chronic Schizophrenia Patients. Span J Psychol. 2017;20:E55. doi: 10.1017/sjp.2017.40
- Akgül Ö, Fide E, Özel F, et al. Early and late contingent negative variation (CNV) reflect different aspects of deficits in schizophrenia. Eur J Neurosci. 2024;59(11):2875–2889. doi: 10.1111/ejn.16340
- Osborne KJ, Kraus B, Lam PH, et al. Contingent Negative Variation Blunting and Psychomotor Dysfunction in Schizophrenia: A Systematic Review. Schizophr Bull. 2020;46(5):1144–1154. doi: 10.1093/schbul/sbaa043
- Ford JM, Mathalon DH. Anticipating the future: automatic prediction failures in schizophrenia. Int J Psychophysiol. 2012;83(2):232–239. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2011.09.004
- Posner MI. Orienting of attention: Then and now. Q J Exp Psychol (Hove). 2016;69(10):1864–1875. doi: 10.1080/17470218.2014.937446
- Arjona A, Rodríguez E, Morales M, et al. The influence of the global/local probability effect on the neural processing of cues and targets. A functional systems approach. Int J Psychophysiol. 2018;134:52–61. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2018.10.005
- Arjona A, Escudero M, Gómez CM. Cue validity probability influences neural processing of targets. Biol Psychol. 2016;119:171–183. doi: 10.1016/j.biopsycho.2016.07.001
- Telesheva KYu, Rabinovich EI. [Developing a psychophysiological method to examine violations of predictive coding processes]. Psihologija. Psihofiziologija. 2024;17(3):114–126. Russian. doi: 10.14529/jpps240310
- Cohen J, Polich J. On the number of trials needed for P300. Int J Psychophysiol. 1997;25(3):249–255. doi: 10.1016/s0167-8760(96)00743-x
- Ruchkin DS, Sutton S, Mahaffey D, et al. Terminal CNV in the absence of motor response. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1986;63(5):445–463. doi: 10.1016/0013- 4694(86)90127-6
- Gramfort A, Luessi M, Larson E, et al. MEG and EEG data analysis with MNE-Python. Front Neurosci. 2013;7:267. doi: 10.3389/fnins.2013.00267
- Myles JB, Rossell SL, Phillipou A, et al. Insights to the schizophrenia continuum: A systematic review of saccadic eye movements in schizotypy and biological relatives of schizophrenia patients. Neurosci Biobehav Rev. 2017;72:278–300. doi: 10.1016/j.neubiorev.2016.10.034
- Baran B, Karahanoğlu FI, Agam Y, et al. Failure to mobilize cognitive control for challenging tasks correlates with symptom severity in schizophrenia. Neuroimage Clin. 2016;12:887–893. doi: 10.1016/j.nicl.2016.10.020
- Brunia CH. Neural aspects of anticipatory behavior. Acta Psychol (Amst). 1999;101(2–3):213–242. doi: 10.1016/s0001-6918(99)00006-2
- Mento G. The passive CNV: carving out the contribution of task-related processes to expectancy. Front Hum Neurosci. 2013;7:827. doi: 10.3389/fnhum.2013.00827
- Coull JT. Neural correlates of attention and arousal: insights from electrophysiology, functional neuroimaging and psychopharmacology. Prog Neurobiol. 1998;55(4):343–361. doi: 10.1016/s0301-0082(98)00011-2
- Corlett PR, Horga G, Fletcher PC, et al. Hallucinations and Strong Priors. Trends Cogn Sci. 2019;23(2):114–127. doi: 10.1016/j.tics.2018.12.001
- Weilnhammer V, Röd L, Eckert AL, et al. Psychotic Experiences in Schizophrenia and Sensitivity to Sensory Evidence. Schizophr Bull. 2020;46(4):927–936. doi: 10.1093/schbul/sbaa003
- Voineskos AN, Jacobs GR, Ameis SH. Neuroimaging Heterogeneity in Psychosis: Neurobiological Underpinnings and Opportunities for Prognostic and Therapeutic Innovation. Biol Psychiatry. 2020;88(1):95–102. doi: 10.1016/j.biopsych.2019.09.004
- Muñoz-Caracuel M, Muñoz V, Ruiz-Martínez FJ, et al. Systemic neurophysiological signals of auditory predictive coding. Psychophysiology. 2024;61(6):e14544. doi: 10.1111/psyp.14544
- Hauke DJ, Charlton CE, Schmidt A, et al. Aberrant Hierarchical Prediction Errors Are Associated With Transition to Psychosis: A Computational Single-Trial Analysis of the Mismatch Negativity. Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging. 2023;8(12):1176–1185. doi: 10.1016/j.bpsc.2023.07.011
- Kremláček J, Kreegipuu K, Tales A, et al. Visual mismatch negativity (vMMN): A review and meta-analysis of studies in psychiatric and neurological disorders. Cortex. 2016;80:76–112. doi: 10.1016/j.cortex.2016.03.017
- Tse CY, Shum YH, Xiao XZ, et al. Fronto-occipital mismatch responses in pre-attentive detection of visual changes: Implication on a generic brain network underlying Mismatch Negativity (MMN). Neuroimage. 2021;244:118633. doi: 10.1016/j.neuroimage.2021.118633
- Barbalat G, Franck N. Dysfunctional connectivity in posterior brain regions involved in cognitive control in schizophrenia: A preliminary fMRI study. J Clin Neurosci. 2020;78:317–322. doi: 10.1016/j.jocn.2020.04.089
- Kapur S. Psychosis as a state of aberrant salience: a framework linking biology, phenomenology, and pharmacology in schizophrenia. Am J Psychiatry. 2003;160(1):13–23. doi: 10.1176/appi.ajp.160.1.13
- Kowalski J, Aleksandrowicz A, Dąbkowska M, et al. Neural Correlates of Aberrant Salience and Source Monitoring in Schizophrenia and At-Risk Mental States — A Systematic Review of fMRI Studies. J Clin Med. 2021;10(18):4126. doi: 10.3390/jcm10184126
- Polich J. Updating P300: an integrative theory of P3a and P3b. Clin Neurophysiol. 2007;118(10):2128–2148. doi: 10.1016/j.clinph.2007.04.019
- Bougrain L, Saavedra C, Ranta R. Finally, what is the best filter for P300 detection? In: TOBI Workshop III — Tools for Brain-Computer Interaction. Würzburg; 2012 [cited 2025 March 2]. [2] p. Available from: https://www.academia.edu/66432269/Finally_what_is_the_best_filter_for_P300_detection
Дополнительные файлы