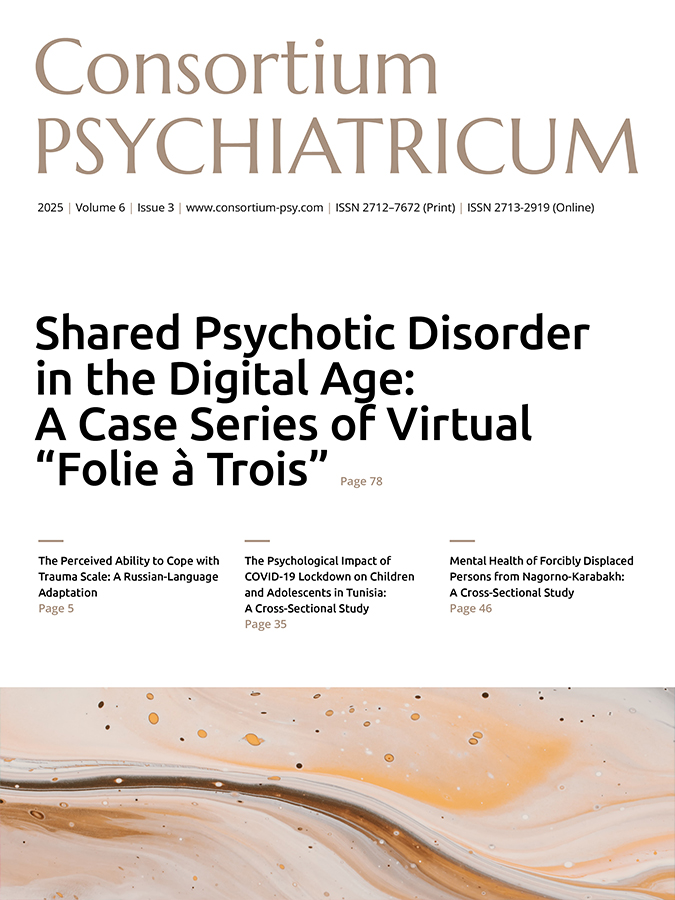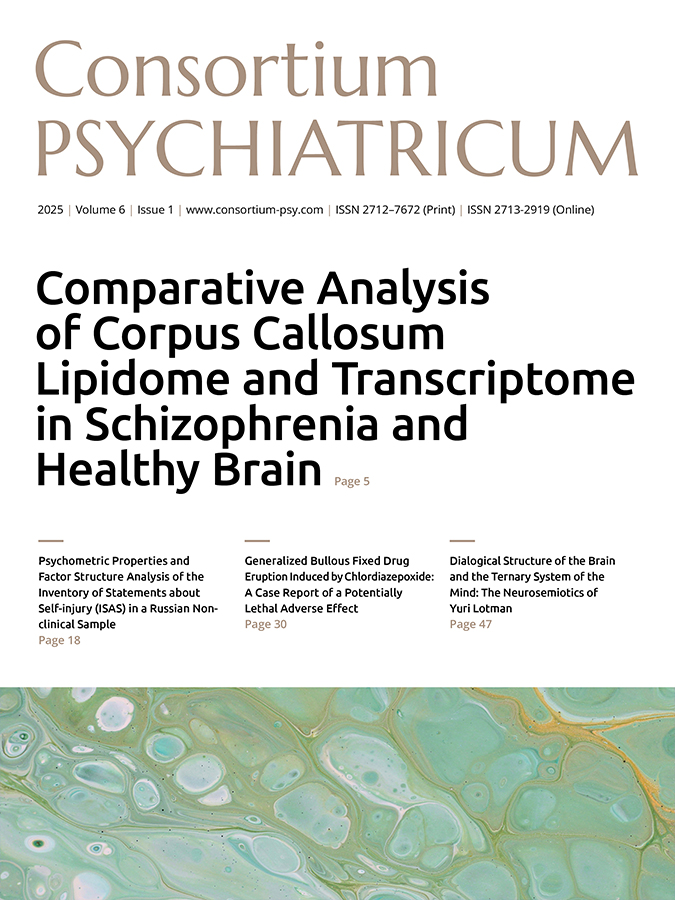Диалогическая структура мозга и троичная система психики: нейросемиотика Юрия Лотмана
- Авторы: Санна М.1
-
Учреждения:
- Университет Сассари
- Выпуск: Том 6, № 1 (2025)
- Страницы: 47-54
- Раздел: МНЕНИЕ
- Дата подачи: 17.12.2024
- Дата принятия к публикации: 18.03.2025
- Дата публикации: 01.04.2025
- URL: https://consortium-psy.com/jour/article/view/15606
- DOI: https://doi.org/10.17816/CP15606
- ID: 15606
Цитировать
Аннотация
Юрий Михайлович Лотман (1922–1993) — советский семиотик, литературовед и культуролог. Ему приписывают основание междисциплинарной Тартуско-московской семиотической школы. Как теоретик культуры и гуманист, он оказал большое влияние на многие области человеческого знания, но его вклад в теории о головном мозге как семиотическом устройстве часто отходит на второй план.
Такие темы, как асимметрия полушарий головного мозга, «непереводимая» специализация используемых ими «языков», межполушарный диалог и единство сознания, были частыми предметами обсуждения в научной среде, сформировавшейся вокруг междисциплинарной московско-тартуской (и ленинградской) группы. В работах последних лет ученые Э. Эндрюс и Т.В. Черниговская заострили внимание на актуальности нейросемиотической модели Ю.М. Лотмана, которая зародилась еще в конце 1970-х годов. Однако сложилось впечатление, что при применении этой модели в современных нейрофизиологических исследованиях был упущен из виду фундаментальный аспект, который Ю.М. Лотман считал неотъемлемым в функционировании любой «мыслящей системы». Этот аспект представляет собой средство интерсемиотического перевода, называемое Лотманом «семиотической границей». Его можно рассматривать как «третью» структуру пересечения двух полушарий, активно работающую над двусторонним переводом специализированных информационных систем. В настоящей статье мы попытаемся восстановить его значение, опираясь на интерпретацию, обновленную с учетом последних открытий в области когнитивной нейронауки.
Ключевые слова
Полный текст
«Нейросемиотическая» модель
Татьяна Владимировна Черниговская [1] пересмотрела заложенную Юрием Михайловичем Лотманом теоретическую основу, подчеркнув генеративную роль «шума» в семиозисе в качестве динамической силы, проистекающей из асимметрии полушарий головного мозга. Она интерпретирует шум не как препятствие для коммуникации, как в классической модели Романа Осиповича Якобсона [2], а как творческое напряжение, способствующее появлению новых смыслов за счет взаимодействия различных когнитивных стилей полушарий [3]. Хотя мой подход берет за основу диалогизм Ю.М. Лотмана и семиотический потенциал асимметрии полушарий, он отличается от них введением концепции семиотической границы, которую Лотман первоначально использовал в культурном анализе, но в значительной степени опускал в нейронауке. В данном случае семиотическая граница является не просто местом напряжения, но и активным посредником, переводящим и интегрирующим «языки» левого и правого полушарий. Переосмысливая идеи Лотмана, данная статья предлагает новое объяснение межполушарной коммуникации как структурированного процесса, генерирующего связные когнитивные и культурные нарративы.
В статье Татьяны Черниговской [1] упоминается, что Юрий Лотман прочитал важную лекцию на семинаре в Тарту в 1981 г., сосредоточившись на «проблеме семиогенеза и функциональной специализации полушарий головного мозга как модели интеллектуальных процессов». Исследователь, присутствовавший на том мероприятии, вспоминает, что этот семинар стал знаковой площадкой для обсуждения экспериментальных результатов Лаборатории функциональной асимметрии мозга человека (Институт эволюционной физиологии РАН) [4]. Размышляя об этих дискуссиях 40 лет спустя, Татьяна Черниговская признает удивительную прозорливость Лотмана, который представил биполярную структуру головного мозга как минимальную семиотическую единицу, на десятилетия опередив нейробиологические открытия в области латерализации мозга. Хотя «он не говорил непосредственно о физиологии», Лотман интуитивно догадывался, что биполярность полушарий — это не только функциональная организация, но также и ключевой принцип в генерации смысла, применимый как к мозгу, так и к культуре. Т.В. Черниговская подчеркивает, что идеи Лотмана остаются весьма актуальны и по сей день [1].
Таким образом, в культурной семиотике у нас есть прямое и примечательное свидетельство того, что Юрий Лотман не только создал свою собственную нейрокогнитивную теоретическую модель, но и сумел наделить ее значительным авторитетом среди российских исследователей в области когнитивной нейронауки [5]. В большом объеме литературной критики и комментариев к работам Юрия Лотмана многие сложные культурные теории, такие как семиосфера или концепция «взрыва», интерпретируются в самых разных формах, часто с игнорированием того факта, что концепция «разума» была для Ю.М. Лотмана основополагающей даже в системе культуры. Его главный международный сборник работ называется «Вселенная разума» [6]. Подзаголовок книги «Семиосфера» звучит следующим образом: «Асимметрия и диалог в мыслящих системах» [7]. В теоретических интерпретациях эти концепции, как правило, затушевываются, несмотря на постоянное повторение Лотманом основополагающего принципа его эпистемологии: изоморфизм индивидуального и коллективного разума, последний из которых понимается как культура.
«Разум» культуры, ее «культурная реальность», является результатом взаимодействия различных языков, которые часто непонятны для других носителей (не только язык в прямом смысле, но также танец, музыка, живопись и даже мода или повседневное поведение). Он также формируется взаимодействием с другими культурами, которые приносят новые языки и обычаи посредством обмена, подобного межсубъектному [8]. Юрий Лотман считал, что головной мозг как семиотическая система, в которой сенсорная и когнитивная информация по-разному циркулирует между полушариями, а также между сознанием индивида и его собеседником, функционирует по одним и тем же механизмам. По сути, как объяснял Ю.М. Лотман, семиотика, будучи самостоятельной дисциплиной, зародилась в качестве науки об информации [9]. С этой позиции изучение культуры интегрировалось в исследование сложных информационных систем и зародило интерес во многих научных областях, включая кибернетику, биологические или физические системы. Семиотика искала общие законы, управляющие сложными системами [10]. В этом контексте работа Лотмана по семиотике головного мозга, в частности концепция «семиотической границы» [6] как межполушарного средства перевода, играет ключевую роль в сближении областей семиотики и когнитивной нейронауки.
Ключевая статья
Фундаментальная статья для понимания междисциплинарного подхода Юрия Лотмана и Тартуско-московской школы называется «Культура как коллективный интеллект и проблемы искусственного разума» (1977) [10]. Итальянский перевод этой работы был опубликован в том же году в материалах ежегодного международного семиотического конгресса, на презентации которых Ю.М. Лотман присутствовал лично [11]. Юрий Лотман начинает представлять проблему культуры как коллективного разума и как модели обучения разумных машин с формулы непреложного закона кибернетики, согласно которому «устойчивость системы возрастает с изменчивостью ее элементов». Этот закон применим и к информации, обрабатываемой и распределяемой полушариями головного мозга, которые для достижения гомеостатической устойчивости (единства сознания) должны разрешить свою специфику и асимметрию посредством взаимного обмена (диалога). Наблюдения за культурными механизмами указывают на то, что только люди способны перерабатывать данные из опыта не лишь в абстрактные концепции, но и в новые идеи посредством диалога с другими людьми, группами и культурами. Эти исследования, которые также проводились Р.О. Якобсоном [12], Л.С. Выготским [13, 14] и В.В. Ивановым [15, 16], привели Ю.М. Лотмана к убеждению, что трудности перевода «языков» не блокируют циркуляцию информации, а, скорее, качественно преобразуют ее, содействуя появлению новых текстов и сообщений, способных переосмысливать новые состояния систем [1, 2, 17]. Перевод с «языка» на «язык» должен быть опосредован не обратимыми, потерминными обменами, а метафорически выработанными средствами, оставляющими место для неординарных интерпретаций. Ю.М. Лотман считал, что именно в этом и заключается истинный источник семиотической креативности человека.
Головной мозг функционирует таким же образом, как описано в статье [11], поскольку креативность человека возникает из способности метафоризировать непереводимую информацию, учитывая, что коды работы соответствующих полушарий специализированы для совершенно разных функций. Он поясняет эти понятия всякий раз, когда говорит о художественных способностях поэтов, писателей, художников и т.д. [6]. «Новая мысль», возникающая в результате творческого межполушарного диалога, — это не просто информация, количественно добавленная к одному или другому полушарию. Здесь мы, по-видимому, обнаруживаем различие, которое Ю.М. Лотман выявил между головным мозгом и разумом: разум существует как качественное воплощение избытка «новой» информации, генерируемой переводами как метафоризациями в результате совместной работы двух полушарий, но семиотизируется человеком в текстах культуры. Она произрастает из межсубъектных отношений, меж- и внутрикультурных взаимодействий, а также из внутреннего ментального диалога [6].
Мы считаем, что эта гипотеза имеет огромное значение для современных нейросемиотических исследований, поскольку она предвосхищает вопрос, поднятый Джулио Тонони в теории интегрированной информации о сознании в категории «физического субстрата»: чем более специализирована информация каждого полушария мозга, тем больше общая информация требует интеграции на метауровне глобальной системы [18]. В то время как Дж. Тонони «решает» проблему с помощью математической формулы, которая измеряет определенное количество интегрированной информации, необходимой для возникновения сознания, Ю.М. Лотман предлагает качественную модель расширенного сознания, в которой культурная информация превосходит биологическую в метасемиотических системах, изоморфных как индивидуальному, так и коллективному разуму.
Непрерывность и дискретность
Аналогия культурной асимметрии и асимметрии структуры головного мозга (также) подразумевает связь между дискретными и непрерывными языками и проблему их взаимной эквивалентности в текстах на их основе [11]. Под непрерывными языками автор понимает язык живописи, скульптуры, архитектуры или непрерывного звука, «чтение» которых происходит не путем расположения элементов вдоль временной линии, а, скорее, за счет того, что символические конфигурации предстают как непосредственные, пространственные и вневременные состояния. Дискретные языки включают естественный язык, письмо, логическое мышление, артикулированное движение и другие элементы, код в которых организован в сегменты, ориентированные по временной линии в направлении результата. Ю.М. Лотман замечает, что у нас есть много инструментов для изучения этой последней категории языков, тогда как для исследования непрерывных — ни одного. «Помимо всего прочего, их роль (как и роль правополушарного сознания) не является второстепенной» [11]. Что ученый подразумевает под «правополушарным сознанием»? Очевидно, имеется в виду проблема внутреннего диалога. Мы помним, что в те годы дебаты на эту тему были оживленными. В.С. Библер [19] написал статью о «процессе внутреннего диалогизма как столкновении радикально различных логик мышления» [1]. Тем временем В.В. Иванов, которого считают одним из сооснователей культурной семиотики, работал над различными формами сенсорной обработки на разных семиотических языках в асимметричном мозге [15]. Ю.М. Лотман утверждает, что если бы кто-то хотел спроектировать искусственную мыслящую машину, то ее требовалось было бы оснастить механизмом, подпадающим под описание «блока младенческого сознания» или «механизма мифологического рождения», поскольку только «полярная противоположность текстов, сформированных в такой структуре, и текстов, сформированных в рамках логико-дискретного механизма, обеспечивает метафоризм, необходимый для выработки новых вариантов коммуникации» [11].
Попробуем вникнуть в сложный язык Юрия Лотмана. Понятие «блок младенческого сознания», понимаемое как прерывание детского психологического развития после травмы в аффективных отношениях, — это психологическое состояние, описанное итальянским детским нейропсихиатром Джованни Боллеа [20]. Хотя Ю. Лотман прямо не цитирует Дж. Боллеа, работы последнего были широко известны с 1960-х годов. Этот «блок» проявляется у детей трудностями в понимании и интеграции своих эмоций, мыслей и восприятия, что приводит их к уходу в параллельную реальность, которая служит защитным механизмом от болезненных эмоциональных переживаний. У ребенка с данным состоянием наблюдаются избегание вербального общения, трудности с выражением эмоций и несформированное целостное самоощущение. В результате он ищет убежища в фантастическом мире, в котором доминируют успокаивающие символические сущности, предлагающие альтернативу невыносимой реальности. Концепция Ю.М. Лотмана может быть также связана с нарушениями отношений между детьми и взрослыми, которые исследовал Л.С. Выготский [14] в его труде о «зоне ближайшего развития» (его интерпретация художественного мышления), описывающем разрыв между тем, чего ребенок может достичь самостоятельно, и тем, чего он может достичь под руководством. Таким образом, Ю.М. Лотман, по-видимому, имеет в виду детский ум, который постоянно оперирует образами и символами. В качестве дальнейшего подтверждения этой интерпретации Лотман также рассматривает «механизм мифологического рождения» как способ построения повествования посредством символов [6], где отношения между явлениями рассматриваются не через логические связи, а через ассоциации в магико-мифологическом континууме. Здесь уместно сослаться на концепцию «неприученной мысли», описанную Клодом Леви-Строссом, которого Юрий Лотман цитирует в статье наряду с Марселем Моссом. Таким образом, мир читается «как карты Таро», когда необходимую информацию дают взаимоотношения между фигурами, а не порядок, в котором вытянуты карты, или их пространственное расположение. Для крайне рационального человека (который активно использует левое полушарие) этот «примитивный», или «детский», язык является совершенно бессмысленным (безумным). Чтобы объяснить подобную несовместимость мыслей, наш семиолог стремится посвятить нас в один из своих самых стройных, но и сложных актов прозрения: [мыслящую систему] «можно определить как механизм, который, в дополнение к разумному поведению, обладает потенциальными способностями к неразумному (безумному) поведению и, таким образом, может в любой момент выбирать между двумя противоположными стратегиями» [11]. В данном исследовании Ю.М. Лотман, очевидно, критикует кибернетическую теорию «метафорического мозга», предложенную М.А. Арбибом [21] (на которую Юрий Лотман ссылается в статье), согласно которой проблем диалога и интеграции между двумя полушариями попросту не существует. По этой же причине Лотман, вероятно, не согласился бы с теорией Арбиба об изучении языка [22] путем подражания посредством закрепленной симуляции [23], основанной на открытиях, связанных с зеркальными нейронами [24], о которых семиотики не имели возможности узнать во время создания своих трудов. Вместо этого мы полагаем, что он сделал бы иные выводы из роли интермодального перевода, осуществляемого зеркальными нейронами, о чем будет упомянуто ниже.
Семиотическая граница и головной мозг
Гипотетический механизм посредничества между двумя полушариями имел бы функциональное расположение в центре оси полярного напряжения, не только поддерживая гомеостатический баланс системы, но и сближая элементы «языков» полушарий в общем поле напряжения. Чем дальше друг от друга на оси находятся два элемента, тем сложнее будет их взаимный перевод. Но именно в этом напряжении реализуются самые эффективные метафоры, самые непредсказуемые мысли, способные порой взорвать порядок прежней системы и заставить ее компоненты найти новый баланс для эффективного обновления мысли [8]. Это явления, которые происходят только в сознательной, мыслительной деятельности индивида, например «безумная» мысль гения физики или неслыханные метафоры поэта, которые, в свою очередь, могут вызывать переворот смыслов, приводящий к эпохальным преобразованиям, таким как исторические художественные жанры.
Семиотическая граница Юрия Лотмана — это семиотическая посредническая структура, подробно описанная в «Семиосфере» [7]. В культуре это можно объяснить с помощью различных примеров, и один из предлагаемых нами — это пример торгового приграничного города, в котором встречаются торговцы и покупатели, говорящие на разных языках, но вынужденные понимать друг друга в ходе простого рыночного обмена. Непонятными друг другу могут быть не только языки, но и сами объекты, использование или художественная ценность которых могут быть неизвестны участникам, что усложняет обмен ценностями. В этих случаях посредники, оценщики, таможенники, эксперты, двуязычные люди и т.д. играют важнейшую роль в заполнении приграничных пространств, делая возможным непрерывный механизм обогащения культур, основным обменом в рамках которого являются новые идеи и мысли. Однако даже этот «Самарканд» имеет свою собственную культурную концепцию, складывающуюся из языков власти, институтов, доминирующей культуры и знати, формируя распространенную местную «атмосферу». Таким образом, за счет охвата сфер семиотического взаимодействия возникает новая сфера, в которой культура стремится идентифицировать себя по механизму самоописания, который, образуя понятие «нас», определяет также «других»: иностранцев, маргиналов, необразованных.
Даже в сознании отдельного человека межполушарная коммуникация не только состоит из циркуляции входных и выходных сигналов, но и включает в себя самосознание, возникающее в результате метафорических переводов между дискретными и непрерывными «языками» и невозможное вне мира межсубъектных семиотических взаимодействий.
Межполушарная система метафорического перевода
Естественно считать, что межполушарные пограничные зоны перевода аналогичны различным комиссурам мозга. Мы предполагаем, что эти комиссуры в совокупности образуют единую межполушарную зону перевода. Функции мозолистого тела были известны Ю.М. Лотману благодаря первопроходческим работам по исследованию разделенного головного мозга Р. Майерса, Р. Сперри и других [25]. Как уже упоминалось, российская нейронаука достигла больших успехов в изучении церебральной асимметрии и, благодаря огромному вкладу А.Р. Лурии, также добилась значительного прогресса в понимании когнитивного развития и системных функций головного мозга [26].
Более поздние исследования показывают, что комиссуры участвуют не только в предварительном выборе сообщений, но и в контроле равновесия, координации сенсомоторных функций и передаче проприоцептивных сигналов [27]. Последняя функция особенно интересна, поскольку она демонстрирует функциональную преемственность с другими комиссурами.
Начнем с передней комиссуры. Метафорический межпариетальный диалог, особенно в результате взаимодействия между двумя нижними теменными дольками, подробно изучен индийским нейробиологом В.С. Рамачандраном [28]. Он отметил, что нижняя теменная долька (как правая, так и левая) является настоящим центром интеграции и обмена различными сенсорными (зрительными, слуховыми, тактильными) и моторными «языками» [29]. Кросс-модальные взаимодействия этих «языков», зависящие от качественного взаимодействия их компонентов, позволяют человеческому разуму объединять новые идеи посредством процессов метафоризации. Таким образом, исследователь формулирует гипотезы о творческом мышлении, в частности в архаичном индийском искусстве. Например, статуи индийского божества Шивы с четырьмя руками олицетворяют не чудовищных людей, а существо, которое в своем космическом танце господствует над небесами и землей. Движение рук — это то, что вращает космическое колесо, в которое вписана фигура, в соответствии с циклом времени. В.С. Рамачандран и Л.Р. Хаббард [30] выдвигают гипотезу, что это метафорический способ слияния дискретного языка последовательного выполнения отдельных жестов с непрерывным языком целостного видения. Нижняя теменная долька глубоко вовлечена в закрепленную симуляцию движений и их зеркальное понимание — до такой степени, что эта долька плотно заселена зеркальными нейронами.
По мнению авторов, нижняя теменная долька, находящаяся на стыке различных специализированных областей, отбирает и координирует сенсорные и моторные «языки», закладывая основу для когнитивной метафоризации. Она также участвует в проприоцепции, что соответствует функции мозолистого тела, которую мы подчеркивали. Исследования с использованием методов визуализации показали, что активность нейронов в правой нижней теменной дольке при несоответствии между наблюдаемым и выполняемым движением повышается, позволяя предположить, что эта область участвует во внутреннем контроле позы и тесно связана с системой зеркальных нейронов [31].
Теперь давайте обратимся к гиппокамповой комиссуре. Гиппокамп в первую очередь известен своей ролью в функциях памяти и пространственной ориентации, но его связи с другими областями мозга, включая двигательные и сенсорные системы, делают его также важным элементом для регуляции осанки и равновесия, задействуя проприоцептивную систему [32]. Проприоцепция — это способность воспринимать и распознавать положение тела и его частей в пространстве без внешнего сенсорного воздействия (зрение, прикосновение). Взаимосвязь между двумя половинами гиппокампа через комиссуру обеспечивает двустороннюю интеграцию проприоцептивной информации от мышц, суставов и сухожилий. Данная проприоцептивная функция позволяет нам осознавать целостность тела по отношению к окружающей среде, например когда мы должны подготовиться к неожиданным внешним реакциям, но еще не знаем, какие мышцы или суставы должны будут прийти в движение. Это также дает нам возможность мысленно дотянуться до самых маленьких мышц тела, которые являются частью нашего воплощенного опыта, и сознательно вспомнить и последовательно выполнить все жесты сложных процедур, таких как игра на пианино [33].
Если мы поместим эти две функции на биполярную ось, то первая будет выглядеть как непрерывное, невыраженное видение, оторванное от целенаправленного действия, например когда мы ощущаем опасность или сталкиваемся с выбором, но еще не знаем, что делать. Вторая будет выглядеть как выполнение проприоцептивной программы, изучаемой сегмент за сегментом, как в сольном концертном выступлении или танцевальном конкурсе, в ходе которого субъект сосредоточивается на каждой мышце и суставе в непрерывной обратной связи между восприятием и проприоцепцией.
Проприоцептивная система также позволяет нам усваивать и осознавать осевые координаты движения [34]: вперед/назад и поддержание вертикального положения, а также ось «верх/низ», проходящую через центр тяжести тела. Мы осознаем эти оси (а также «баланс» право/лево), когда тело движется к интересующему нас объекту (целеориентированная процедура) или когда тело «играет» с проприоцептивным балансом, например когда ребенок учится стоять и ходить или в «диких» танцевальных движениях [35]. Проприоцепция воспринимается и как двусторонняя, и как односторонняя/деликатная (как при тонкой ручной работе), что делает ее функцию «третьей» в иерархии специализации полушарий. Поскольку проприоцепция участвует в межсубъектных отношениях через систему зеркальных нейронов, она может играть роль расширенной «коллективной проприоцепции», позволяя целой культуре упорядочивать и разделять смыслы своего мира. Например, ось «верх/низ» содержит целые символические системы, которые различаются в разных культурах, такие как небо/земля, божественное/человеческое, королевское/подчинение, престиж/презрение, важность/бесполезность и т.д. Эта третья, метафорически напряженная функция позволяет нам описывать проприоцепцию как границу или метафорический фильтр для перевода между восприятием и познанием.
Заключение
В данной статье мы предложили интерпретации некоторых глубоких идей Юрия Лотмана, которые еще могут пролить свет на современные дебаты в когнитивной нейронауке. Семиотическую границу как часть троичной структуры системы головной мозг — тело следует понимать следующим образом: мозолистое тело облегчает передачу уже обработанной информации, готовой к быстрой реализации в контралатеральной системе, функционируя как механизм предварительного отбора и опосредованной маршрутизации.
Передняя комиссура модулирует напряжение между двумя ассоциативными теменными долями, регулируя выбор обмена сенсорными и сенсомоторными сообщениями. Гиппокампальная система посредством комиссуры регулирует колебания между статической и динамической проприоцепцией, а также между равновесием/дисбалансом тела. Регистрируя новые движения, отмеченные эмоциональной значимостью, она усиливает свою важность для долговременной памяти. Система перевода может дополнительно поддерживаться другими комиссурами, такими как червь мозжечка или недавно открытая межталамическая комиссура. Согласно этому видению, два полушария сообщаются вдоль непрерывной/прерывистой оси следующим образом.
Информация, передаваемая левым полушарием в виде артикулированных сегментов действий или сенсорных языков, проходя через пограничную систему, будет разлагаться на символические единицы в соответствии с семантическими конфигурациями, на которые влияет окружающая среда. В этих вневременных сетках каждый символ приобретает значение из непосредственных связей с другими символами на основе топологических и метафорических критериев. Символ может либо вписаться в уже устоявшуюся когнитивную конфигурацию, либо потребовать новых интерпретационных сеток вокруг его выразительной силы. Затем эти вневременные конфигурации символов представляются противоположному полушарию как «узлы» для возможных фрагментов новых, творческих (или корректирующих) синтаксических цепочек, которые должны быть интегрированы в целенаправленное действие.
Поскольку обмениваемые элементы «стремятся» к функции, не предсказанной естественным поведением вида, это метафорическое искажение открывает разуму новые способы познания или распознавания мира. Это ключ к креативности человека. Структура разума троична, поскольку проприоцептивное и когнитивное сознание функционирует как металингвистический слой над церебральным билингвизмом. Однако индивидуальный разум не может действовать, если он не погружен в более широкие системы — от интерсубъективности до культуры и межкультуры. Семиосфера, по определению Лотмана, — это «система систем».
Несмотря на то что эта работа направлена на теоретическое осмысление идей Юрия Лотмана и их потенциального применения в рамках когнитивной нейронауки, мы признаем ее внутренние ограничения как труда, выполненного в спекулятивном ключе. В частности, из независимой позиции автора, не имеющего доступа к исследовательским центрам или лабораториям, способным экспериментально проверить выдвинутые гипотезы, происходит отсутствие эмпирической интеграции или практических оценок. Представленные в работе аргументы призваны в первую очередь побуждать теоретическое и междисциплинарное обсуждение, предлагая интерпретационную модель, которая требует дальнейшего изучения и подтверждения посредством эмпирических исследований. Мы рекомендуем научному сообществу рассматривать эти идеи как отправную точку будущих исследований практического применения нейросемиотической модели и ее потенциального вклада в понимание когнитивного и культурного функционирования.
Финансирование: Исследование проводилось без дополнительного финансирования.
Конфликт интересов: Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
Марко Санна
Университет Сассари
Автор, ответственный за переписку.
Email: marcosanna@yahoo.it
ORCID iD: 0000-0003-2333-6714
Ph.D, Department of History and Human Sciences
Италия, СассариСписок литературы
- Chernigovskaya TV. [“Noise” as a key to semiosis: the brain and culture (40 years later)]. Slovo.ru: Baltijskij akcent. 2022;13(2):24–36. Russian. doi: 10.5922/2225-5346-2022-2-1
- Andrews E. Lotman and cognitive neurosciences. In: Tamm M, Torop P, editors. The companion to Yuri Lotman: a semiotic theory of culture. London: Bloonsbury Academic; 2022. p. 466–482.
- Chernigovskaya TV. Cerebral asymmetry — a neuropsychological parallel to semiogenesis. In: Figge UL, Koch W, editors. Bochum publications in Evolutionary Cultural Semiotics. Vol. 27: Language in the Wűrm Glaciation. Acta Coloquii. Bochum: Brockmeyer; 1996. p. 53–64.
- Balonov LYa, Deglin VL, Chernigovskaya TV. [Functional brain asymmetry in organization of verbal activity]. In Sensornye sistemy: sensornye processy i asimmetrija polusharij. Leningrad: Nauka; 1985. p. 99–115. Russian.
- Andrews E. The importance of Lotmanian semiotic to sign theory and the cognitive neurosciences. Sign Systems Studies. 2015;43(2/3):347– 364.
- Lotman YuM. Universe of the mind: a semiotic theory of culture. Bloomington: Indiana University Press; 1991.
- Lotman YuM. On the semiosphere. Sign Systems Studies. 2005;33(1):205–229.
- Lotman YuM. Culture and Explosion. Berlin: De Gruyter Mouton; 2009.
- Lotman YuM. [Look for the road: models of culture]. Venezia: Marsilio; 1993. Italian.
- Lotman YuM. [Culture as collective mind and the problems of artificial intelligence]. Moscow; 1977. Russian.
- Lotman YuM. [Culture as collective mind and the problems of artificial intelligence]. Urbino: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 1977. Italian.
- Jackobson R. Linguistic and poetics. In: Sebeok TA, editor. Style in language. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press; 1960. p. 350–377.
- Vygotsky LS. [Thinking and speech: psychological research]. Moscow: Gosudarstvennoe sotsial’no-ekonomicheskoe izdatel’stvo; 1934. Russian.
- Vygotsky LS. The psychology of art. Cambridge, Lindon: M.I.T. Press; 1971.
- Ivanov VV. [Even and odd: asymmetry of the brain and sign systems]. Moscow: Sovietskoe radio; 1978. Russian.
- Ivanov VV. Semiotics of the 20th century. Sign Systems Studies. 2008;36(1):185–243. doi: 10.12697/sss.2008.36.1.10
- Semenenko A. Homo polyglottus: semiosphere as a model of human cognition. Sign System Studies. 2016;44(4):562–580. doi: 10.12697/SSS.2016.44.4.02
- Tononi G, Boly M, Massimini M, et al. Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. Nat Rev Neurosci. 2016;17(7):450–461. doi: 10.1038/nrn.2016.44
- Bibler VS. [Thinking as creativity: an introduction to the logic of mental dialogue]. Moscow: Politizdat; 1975. Russian.
- Bollea G. [Developmental psychiatry. Post-natal psycho-organic syndromes]. Roma: Bulzoni; 1980. Italian.
- Arbib MA. The metaphoric brain: an introduction to cybernetics as artificial intelligence and brain theory. New York: Wiley; 1972.
- Arbib MA. From grasp to language: embodied concepts and the challenge of abstraction. J Physiol Paris. 2008;102(1–3):4–20. doi: 10.1016/j.jphysparis.2008.03.001
- Gallese V. Embodied simulation: from mirror neuron systems to interpersonal relations. Novartis Found Symp. 2007;278:3–12; discussion 12–19, 89–96, 216–221. doi: 10.1002/9780470030585.CH2
- Rizzolatti G, Fogassi L. The mirror mechanism: recent findings and perspectives. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2014;369(1644):20130420. doi: 10.1098/rstb.20130420
- Gazzaniga MS. Review of the split brain. J Neurol. 1975;209(2):75–79. doi: 10.1007/BF00314600
- Luria AR. Cognitive development: its cultural and social foundations. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
- Whittier T, Bandera V. Innovative methods measure the neural correlates of proprioception in multiple sclerosis. J Neurophysiol. 2020;124(4):1007–1009. doi: 10.1152/jn.00223.2020
- Ramachandran VS. The tell-tale brain: a neuroscientist’s quest for what makes us human New York: W.W. Norton & Company; 2011.
- Catani M, Robertsson N, Beyh A, et al. Short parietal lobe connections of the human and monkey brain. Cortex. 2017;97:339–357. doi: 10.1016/j.cortex.2017.10.022
- Ramachandran VS, Hubbard EM. Synaesthesia — a window into perception, thought and language. J Conscious Stud. 2001;8(12):3–34.
- Chong TTJ, Cunnington R, Williams MA, et al. fMRI adaptation reveals mirror neurons in human inferior parietal cortex. Curr Biol. 2008;18(20):1576–1580. doi: 10.1016/j.cub.2008.08.068
- Postans M, Parker GD, Lundell H. Uncovering a role for the dorsal hippocampal commissure in recognition memory. Cerebl Cortex. 2020;30(3):1001–1015. doi: 10.1093/cercor/bhu143
- Bernardi NF, De Buglio M, Trimarchi PD, et al. Mental practice promotes motor anticipation: evidence from skilled music performance. Front Hum Neurosci. 2013:7:451. doi: 10.3389/fnhum.2013.00451
- Proske U, Gandevia SC. The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. Physiol Rev. 2012;92(4):1651–1697. doi: 10.1152/physrev.00048.2011
- Basco JC, Satyal MK, Rugh R. Dance on the brain: enhancing intra- and inter-brain synchrony. Front Hum Neurosci. 2021;14:584312. doi: 10.3389/fnhum.2020.584312
Дополнительные файлы