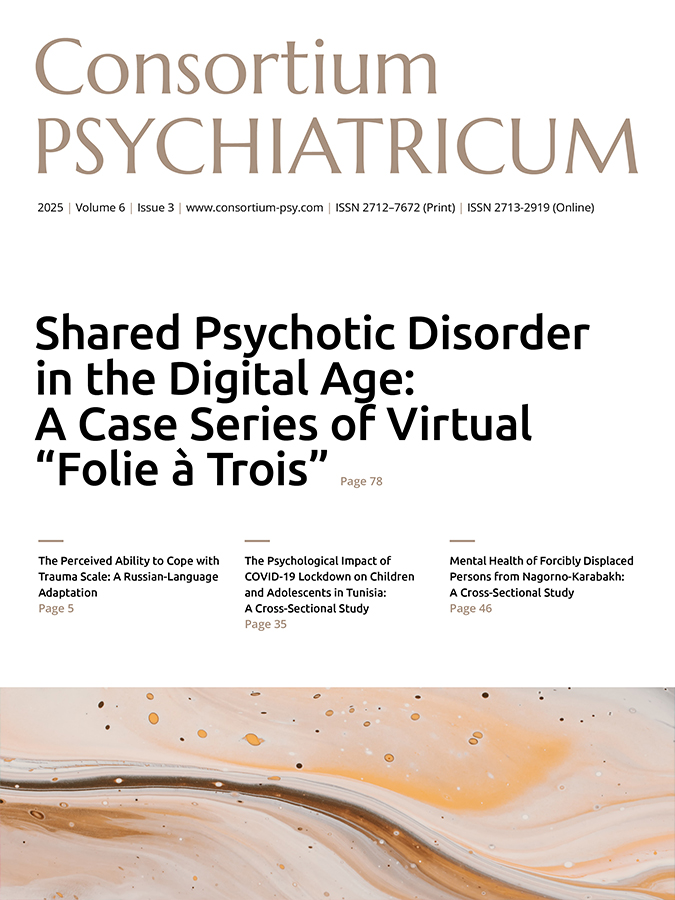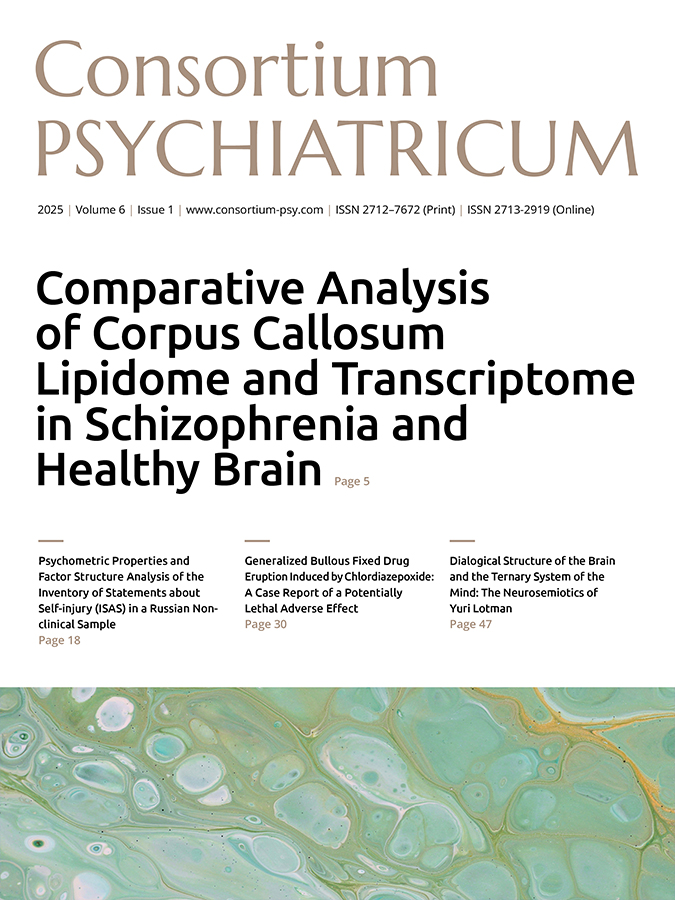Комментарий к статье «Диалогическая структура мозга и троичная система психики: нейросемиотика Юрия Лотмана»
- Авторы: Андрющенко А.В.1,2
-
Учреждения:
- ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
- Выпуск: Том 6, № 1 (2025)
- Страницы: 55-60
- Раздел: КОММЕНТАРИЙ
- Дата подачи: 05.02.2025
- Дата принятия к публикации: 18.03.2025
- Дата публикации: 01.04.2025
- URL: https://consortium-psy.com/jour/article/view/15627
- DOI: https://doi.org/10.17816/CP15627
- ID: 15627
Цитировать
Полный текст
Марко Санна, автор статьи «Диалогическая структура мозга и троичная система психики: нейросемиотика Юрия Лотмана», выполненной в формате научно-популярного эссе, размышляет о сложном устройстве информационных систем человеческого разума в повседневной жизни, источниках «семиотического творчества» и механизмах создания абстрактных символов и смыслов [1]. Автор подводит нас к выводу о важности синхронизации семиотики с нейронауками и полезности лотмановской модели, приглашая к будущей дискуссии специалистов из круга интегративной нейронауки, в том числе психиатров, медицинских психологов, нейролингвистов, эволюционных психологов, антропологов и культурологов. Это эссе можно считать введением в проблему. Правильное структурирование содержания статьи позволило выделить ряд перспективных идей Юрия Михайловича Лотмана и рассмотреть целесообразность применения отдельных положений его теории в современных исследованиях. Данным комментарием хочу поддержать инициативу возрождения интереса к работам этого ученого с мировым именем и рассмотрения идеи семиотического пространства и собственно методологии Ю. Лотмана в контексте развития междисциплинарных нейрокогнитивных исследований.
Автор поднимает вопросы недооцененности теоретических работ семиолога и культуролога Ю. Лотмана, выполненных во второй половине ХХ века, но не утративших своего значения для развития нейросемиотики на современном уровне интегративной науки и постнеклассической философии [2]. На работы по нейролингвистике и семантике того научного периода существенное влияние оказали идеи известного психофизиолога Александра Романовича Лурии о вторичных системных нарушениях речи, выходящих за рамки понимания локального топического распределения первичных функций [3]. Ориентируясь на эти достижения того времени, Ю. Лотман создает теорию о пространственной семиотике, или семиосфере с внутренними и внешними границами, выходящую за рамки естественных наук и филологии. Следует согласиться с автором, что важным вкладом Ю. Лотмана можно считать специализацию и трансляцию информации с помощью как диалога индивидуума с внешним миром, так и внутреннего «диалога двух полушарий», основанного на функциональной асимметрии [4, 5]. Эта позиция автора определила квинтэссенцию статьи и выбор ее названия. Возникновение идеи пространственной семиотики, согласно пояснению Ю. Лотмана, было обусловлено развитием математических и естественных наук: «Успехи неэвклидовой геометрии и появление теории относительности выдвинули идеи релятивности пространства, множественности пространств, их асимметричности и взаимной симметрической дополнительности» [6]. Ю. Лотман, опираясь на свой подход, указал на значимые отличия естественного языка от собственно речи и текстов: невыраженное против выраженного, идеальное против структурного и против материализованного, что важно для понимания специфики нейролингвистических и культурологических исследований. В последние десятилетия прошлого века идеи Ю. Лотмана о семиосфере, семантической сети из лексических и синтаксических структур, концепция о семиотическом устройстве мышления и функциональная нейросемиологическая модель были новаторскими, широко обсуждались на конференциях и в тематических публикациях, были высоко оценены в среде российских исследователей. Но на современном этапе науки они мало используются для разработки когнитивных теорий и в прикладных исследованиях международного уровня. Трудности интерпретации ключевых понятий Ю. Лотмана и слабая разработка междисциплинарных принципов для изучения глубинных мозговых процессов на стыке с лотмановской семиотикой — некоторые из возможных причин.
Понятно, что в настоящем идеи Ю. Лотмана также лежат в одной плоскости с передовыми научными представлениями о коннектомике, функциональной пластичности и когнитивной мобильности мозга человека, в какой-то мере с концепцией когнитома Константина Владимировича Анохина, описывающей ментальные функции и сознание как работу нейронной гиперсети. Если сравнить структурно- функциональный подход Ю. Лотмана к объяснению наиболее сложных аспектов интеллектуально- мнестических функций, можно сделать вывод, что по уровню решаемых задач он вполне сопоставим с идеями К. Анохина [7, 8]. К.В. Анохин, разрабатывая концепцию высокопорядковой гиперсетевой модели мозга, отметил серьезный общий недостаток современных исследований высших психических функций и процессов сознания [7]. Это отсутствие четкой нейробиологической теории для описания сознания и устройств информационных систем, иными словами, теории, которая объясняет, как приобретается богатый субъективный опыт в результате деятельности мозга [9, 10]. Константин Анохин настаивает на радикальной перестройке представлений о мозге с позиции теории функциональных систем для преодоления пропасти между классической нейрофизиологией и психологией. Он предлагает мост в виде альтернативной теории «разума-мозга», включающей целостные функциональные системы. При этом масштаб функциональной единицы может быть различным в зависимости от необходимого комплекса процессов. Это позволяет рассмотреть новый фундаментальный уровень для нейробиологических систем, который «поднимает их до категории когнитивных систем» [7]. В соответствии с теорией функциональных систем деятельность когнитивного организма и адаптация человека детерминированы накоплением субъективного опыта когнитивными системами и развитием способности к «опережающему отражению будущих отношений со средой» [7]. В исследованиях Вячеслава Борисовича Швыркова, развивающего эту теорию, показано, что нейроны специализированы относительно целостных элементов субъективного опыта и реакций, а не отдельных физиологических или психологических функций [11].
Теоретические подходы к обработке мозгом информации Юрия Лотмана и Константина Анохина имеют перспективы для поиска фундаментальных основ когнитивных и психических функций человека. Кстати, подход Ю. Лотмана совпадает с современным в плане представлений о высокой технологичности такого рода когнитивных исследований, включая технологии «думающих» машин. Переворот в нейробиологических исследованиях вызвали методы оптогенетики. Эти технологии могут прояснить наиболее спорные моменты в лотмановской теории и представлениях автора статьи. С их помощью можно будет проверять биологический компонент феноменов церебрального билингвизма и непрерывного взаимодействия двух полушарий в состоянии покоя или в ответ на выполнение определенной задачи, на которые ссылается автор статьи. Во времена Ю. Лотмана об этом можно было только мечтать. Кроме того, сейчас излишне говорить, что искусственный интеллект и методы машинного обучения перестают быть только инструментом. Современные технологии искусственного интеллекта уже помогают моделировать когнитивные процессы, отличные от наиболее понятных нам аналоговых способов восприятия и мышления, но для их понимания требуется разработка подходящих нейрокогнитивных теорий.
Тренды нейролингвистических исследований постепенно менялись под влиянием открытий нейронаук. В настоящее время довольно хорошо изучены семантические структуры языка с учетом распределения и объединения языковых функций в коре полушарий мозга, связи речи и мышления. В последние годы изучается взаимодействие между корковыми речевыми и неязыковыми сенсомоторными зонами мозга, выделены контуры нейросетей с участием глубинных подкорковых отделов с указанием операциональных и регуляторных функций определенных отделов. Сейчас стало более понятно, как интегрирована работа мозга. Для большинства сенсорных, двигательных и когнитивных процессов важны межполушарные связи с переходом с одного полушария на другое в виде «зеркальных» или «незеркальных» трактов. К последним относится функциональная петля между зонами Брока и Вернике и другие. Мозолистое тело, включающее около 100 млн волокон, обеспечивает очень короткий промежуток, за который оба полушария обрабатывают одну и ту же задачу [11]. Для понимания того, как полушария общаются друг с другом, изучаются разные функциональные сети речи, включая семантические. Предполагают, что имеется сильное взаимодействие между левополушарной обработкой синтаксиcа и правополушарной обработкой просодической информации посредством мозолистого тела. Это позволяет двум типам информации влиять друг на друга [13, 14]. Обобщенные данные более чем 100 экспериментов по нейровизуализации мозга с помощью фМРТ и ПЭТ указывают на то, что физические сигналы речи в мозге присутствуют в виде множества различных точек выбора в системе как ввода, так и вывода информации. Выделено около 730 зон повышенной активности в левом полушарии, которые отвечают за фонологию, семантику, обработку предложений или текстов и значительное перекрытие между ними [15].
Анализируя нейробиологические данные, связанные с распределением семантических структур, важно учитывать их возможную гибкую мобильность за небольшой период времени при расширении рабочей лексики живого языка и упрощении синтаксиса. Эти процессы характерны для многих современных языков. Все это свидетельствует о распределенной сети речевых функций, аналогичной Всемирной паутине.
Для этих исследований концепция Ю. Лотмана о потоках и схемах информации может быть полезна. Можно согласиться с формальной логикой автора о возможности соотнесения теоретических предсказаний Лотмана с накопленными эмпирическими нейробиологическими данными и отражающими их современными доктринами, в том числе объясняющими роль субъективного опыта человека и рефлексии, связи личности с культурой.
Наибольшие трудности вызывает та часть статьи, в которой автор предлагает интерпретацию лотмановского понятия о «семиотической границе» (необходимого образования для обеспечения межполушарного перевода и диалога в системах восприятия и мышления) как самостоятельной структуры, важной для функциональной связности полушарий. Обсуждение спорного и многоуровневого феномена «семиотической границы» как функциональной единицы мозга и семиотического пространства автор делает ядром статьи и считает веским аргументом в пользу актуальности идей Ю. Лотмана. С этой целью представлено несколько подходящих примеров из современной нейробиологии, но, к сожалению, без обсуждения ограничения значения этих данных. По меньшей мере понятие границы в данной интерпретации требует анализа большего числа научно обоснованных аргументов. Тем более что выделяемый Ю. Лотманом и автором феномен границы как размытой приграничной линии подразумевает, что она может меняться не только по объему, например становиться шире, но и по степени вовлеченности тех или иных структур. В настоящее время такие изменения мозга стали более понятны в свете знаний о нейропластичности, которая, являясь частью генетического наследия человека, реализует преобразование мозга под влиянием многих социокультурных факторов по мере развития культуры. На каждом новом этапе культурного развития среднестатистический человек осваивает навыки, предполагающие масштабные изменения мозга. В литературе описаны более обширные области и связи между двумя полушариями у музыкантов, которые начали рано обучаться. Интересно, что в современной нейронауке нашло подтверждение предсказание Ю. Лотмана о совершенно новой информации, которую он описывает как метафоризацию непереводимой информации при взаимодействии полушарий. Она необходима, по мнению ученого, в силу разной специализации полушарий. Подобный феномен суммарной информации (не просто добавленной), когда влияние отделов мозга друг на друга приводит к качественному преобразованию, когда новое целое не является результатом простого сложения элементов, подходит под описание эмерджентности. Согласно биологическим исследованиям, с каждой итерацией приграничная межполушарная область может меняться. Не исключено, что изучение семиотической границы в нейробиологических исследованиях будет затруднено из-за огромного числа изменений синаптической активности, плотности рецепторов и клеток мозга, происходящих по разнообразным причинам. Описывая границу, автор минимально упоминает роль мозжечка, новые знания о функциях которого предполагают более серьезное обсуждение в данном контексте.
К числу важных тем, поднятых автором, можно отнести влияние на биологию мозга факторов, связанных с культурным пространством. С учетом того, что эволюционная история человеческого вида связана с развитием языка в контексте личных и социокультурных целей, рассмотрение культуры в нейросемантической модели Ю. Лотмана — важная проблема, требующая отдельного изучения. Автор эссе опирается на ключевую статью ученого о культуре как о коллективном интеллекте при эпистемологии изоморфизма индивидуального и коллективного разума. В этой логике и в контексте двусторонней направленности воздействия (по типу встречного движения) сейчас рассматривается культуральная опосредованность понятия «разум»: мозговая деятельность человека причастна к созданию культуры, но также обучение и культурный опыт могут изменять нейронные связи, перепрограммировать нейрональные цепочки и функциональную связность между отдельными областями. Это показано в многочисленных исследованиях вплоть до того, что выполнение определенных культурных задач может приводить к формированию специфических модулей мозга. В рамках кросс-культурного анализа показано, что важно учитывать установленные различия между мышлением людей, принадлежащих к западной или восточной культуре.
Понимание Ю. Лотманом влияния культуральных факторов важно для изучения психической активности «рефлексирующего», «творчески мыслящего», «креативного» человека — позиции, подробно изложенной известным философом Мерабом Константиновичем Мамардашвили в терминах культурно-диалогического понимания рефлексии [16–18]. Связь индивидуального и коллективного разума через диалог человека с культурными формами в теории Ю. Лотмана отражает принцип, заложенный российскими философами и психологами. М. Мамардашвили рассматривает взаимосвязь между человеком и культурой как влияние «культурных форм» (искусства, науки, философии, других) в качестве «человекообразующих машин», то есть выстраивания в человеке того, «чего иначе не могло бы быть [16]. В публикациях Льва Семеновича Выготского прослеживается мысль, что культура, в частности искусство, выполняет психотехническую работу и может трансформировать мышление человека [19]. В поисках связующего звена между культурой и человеком Л.С. Выготский использует понятие «слово», а М.К. Мамардашвили, развивая свои идеи с опорой на античную и постмодернизм/постнеклассическую философию, — понятия «логос» и «топос». Значение единиц языка, системы речи и роли рефлексии в работах Л. Выготского, Ю. Лотмана и М. Мамардашвили рассматривается с разных позиций, однако суть их идей находится в одном пространстве размышлений о содержании и механизмах формирования культурных форм. В своих работах Ю. Лотман и М. Мамардашвили осуществляли попытку понять механизм процесса преобразования человека, соприкасающегося с культурными формами, и формирования избыточных для биологии человека свойств — ритмов и интонаций души. В рамках такого подхода для образования избыточности важен диалог между «Я» человека и его рефлексивной позицией, которая обозначается как «Другой». Именно образовавшаяся избыточность в ходе рефлексии способна преобразовать известные представления и становится источником нового знания об изучаемой реальности, ее развития и регуляции. Таким образом, рефлексирующий человек возникает не просто благодаря освоению слова-понятия, но и благодаря культурным формам, логосу и топосу, находясь в диалоге с которыми он созидает себя.
Развитие идей Ю. Лотмана для междисциплинарных исследований в медицине может опираться на биопсихосоциальную модель психических и неврологических расстройств. Еще недостаточно собрано информации о биологических эффектах многочисленных факторов, связанных с обыденным опытом и влиянием культуры. Но в последней версии международной классификации психических расстройств МКБ-11 этому вопросу уделяется особое внимание. Тема «диалога между полушариями», поднятая автором, вполне уместна при обсуждении сложных клинических случаев с нарушениями речевой и других когнитивных функций, особенно в контексте онтогенетического развития. Известны клинические случаи когнитивной мобильности мозга, приведшей к восстановлению речевых, семантических функций при серьезном поражении доминантного полушария в раннем детском возрасте. Моделью для изучения роли гемисфер могут стать варианты прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний пожилого и старческого возраста, которые начинаются в виде локальных нарушений синаптической активности, фокальной атрофии мозга и изолированных симптомов. Нейропластичность и компенсаторные механизмы часто способствуют тому, что когнитивные нарушения вначале развиваются постепенно и внешне незаметно, отчетливо проявляясь по мере вовлечения обеих гемисфер и парных мозговых областей. По мнению нейрофизиологов и неврологов, большинство когнитивных функций у человека задублированы в левой и правой гемисферах в корковых зонах (префронтальная, двигательная, сенсомоторная кора, вторичные ассоциативные корковые центры) и базальных ядрах (гиппокамп, миндалина, стриатум, другие) и являются функционально идентичными. Межполушарная связь позволяет развивать компенсаторный механизм и сохранять нормальную функциональную асимметрию.
Как правило, процессы естественного и патологического старения начинаются с недоминантного (обычно правого) полушария для речевых функций и семантических функциональных сетей. Часто компенсаторный механизм исчерпывается только на поздних стадиях нейродегенеративных заболеваний при грубом дефиците высших психических функций. Так, при типичной форме болезни Альцгеймера когнитивные расстройства проявляются амнестическим синдромом при вовлечении левого и правого гиппокампов (стратегически важной структуры для процессов памяти). При этом сохранность речи у пациентов играет компенсаторную роль и помогает сохранять социальную активность относительно длительное время до тех пор, пока не наступает выраженная двусторонняя атрофия мозга, приводящая к нарушению семантической интерпретации и кодировки информации. На поздних стадиях пациенту сначала трудно подобрать нужное название к знакомому предмету, а затем он совсем теряет название (не понимая, что это, чему служит этот объект) и утрачивает умение речевой коммуникации. Но при нейродегенеративной патологии случается и локальное поражение доминантного полушария мозга в дебюте заболевания, при котором развивается синдром изолированной первичной прогрессирующей афазии с выраженными ограничениями повседневной жизни. В случаях с односторонним поражением (включая данные нейровизуализации) отмечается низкий реабилитационный потенциал. Вероятно, речь идет о поражении стратегически важной зоны для речи, но непарной в функциональном смысле. В психиатрической и неврологической практике наблюдаются разные случаи утраты больными категориального понимания мира и речевых нарушений (обеднение названий и понятий, разрушение синтаксических правил). Часто трудно доказать, что нарушения не связаны с дефицитом оперативной памяти и произвольного внимания, замедлением скорости обработки информации и другими проблемами. Причины и механизмы развития речевых нарушений вследствие нейродегенеративных заболеваний до сих пор остаются предметом полемики также и по причине накопления данных о том, что речевые семантические функции не ограничиваются доминантным полушарием. Например, правое полушарие позволяет иметь сложные способы восприятия и выражения мысли, анекдотов, иронии, а для левого полушария характерно буквальное, рациональное восприятие [20]. Важна разработка методов нейросемантики для диагностики и нейрореабилитации.
Обобщая мнение о статье «Диалогическая структура мозга и троичная система психики: нейросемиотика Юрия Лотмана», считаю нужным изложить свою точку зрения относительно полезности подхода Ю. Лотмана при выборе целей и методологии современных поисковых исследований в области когнитивных нейронаук, психиатрии и неврологии. Предполагается, что его теория позволяет изучать высокоорганизованные конструкты, связанные с разумным восприятием и поведением, предсказательную роль мозговых процессов и их влияние на развитие сложных культурных форм. Безусловно, преимуществом его концепции является эпистемологическая основа, ориентированная на изоморфизм в информационных системах индивидуального и коллективного разума. При развитии идей Ю. Лотмана желательно опираться на принципы постнеклассической философии, включая междисциплинарность. Считаю, как серьезные ограничения применения подхода Ю. Лотмана следует выделить сохраняющиеся трудности интерпретации ключевых понятий, особенно понятия о «семиотической границе» двух полушарий, недостаточную разработанность междисциплинарного подхода и отсутствие достоверных экспериментальных данных. Вместе с тем эти идеи Ю. Лотмана и автора статьи заслуживают более подробного рассмотрения, например, методом нарративного обзора, что поможет обозначить потенциальные научные области применения и ограничения концепции Ю. Лотмана для исследований. Надо признать, что статья перегружена идеями Ю. Лотмана и автора, некоторые из поднятых тем и идей представлены спекулятивно, без достаточного научного обоснования. Наиболее спорная часть статьи по «трудной проблеме» — сознанию, — которая пока вне медицины и нейронаук часто рассматривается как приватно философская категория. Автор статьи говорит о единстве сознания в аспекте межполушарного диалога, ссылаясь на Ю. Лотмана, но без привлечения современных данных и мнений ведущих специалистов в области нейронаук, что важно делать при работе с этой наиболее серой зоной нашего знания о живом. Для устранения этого камня преткновения требуются адекватные трактовки и современная разработка концепции Ю. Лотмана с опорой на нейронауки и надежные данные исследований. В этой работе может быть использована теория когнитома К. Анохина [2]. Хочу пожелать успехов автору в этой непростой работе.
Финансирование: Исследование проводилось без дополнительного финансирования.
Конфликт интересов: Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
Алиса Владимировна Андрющенко
ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»; ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
Автор, ответственный за переписку.
Email: alissia.va@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7702-6343
MD, Dr. Sci (Med.), Head of the Department of Mental Disorders in Neurodegenerative Brain Diseases, Professor, Department of Mental Health and Clinical Psychiatry, Faculty of Psychology
Россия, Москва; МоскваСписок литературы
- Sanna M. Dialogical Structure of the Brain and the Ternary System of the Mind: The Neurosemiotics of Yuri Lotman. Consortium PSYCHIATRICUM. 2025;6(1):CP15606. doi: 10.17816/CP15606
- Kostina AV. [Main features of postnonclassical science and philosophy. Materials for the courses “Philosophy”, “Theory and Methodology of Culture”]. Uchenyj sovet. 2019;(12):52–59. Russian.
- Luria AR. [Higher cortical functions of man]. Saint-Petersburg: Piter; 2020. p. 528–601. Russian.
- Lotman YM. [Articles on semiotics and topology of culture]. In: Yu. Lotman YM. Izbrannye stat’i: v 3 tomah. Tallinn: Alexandra; 1992. Vol. I. Russian.
- Lotman M. Umwelt and semiosphere. Sign Systems Studies. 2002;30(1):33–40. doi: 10.12697/SSS.2002.30.1.03
- Lotman YM. From the editors. To the problem of spatial semiotics // Works on sign systems. Tartu, 1986. Vyp. 720. С. 3. Russian.
- Anokhin KV. The Cognitome: Seeking the Fundamental Neuroscience of a Theory of Consciousness. Neurosci Behav Physi. 2021; 51:915–937. doi: 10.1007/s11055-021-01149-4
- Anokhin KV. [Cognitome: hypernetwork model of the brain]. In: Trofimov AG, editor. Nejroinformatika-2015: XVII Vserossijskaja nauchno-tehnicheskaja konferencija s mezhdunarodnym uchastiem: sbornik nauchnyh trudov: [v 3 ch.]. Moscow: MIFI; 2015. p. 14–15. Russian.
- Chalmers DJ. The conscious mind: in search of a fun damental theory. Oxford: Oxford University Press; 1996. 432 p.
- Chalmers DJ. The character of consciousness. New York: Oxford University Press; 2010. 596 p.
- Shvyrkov VB. [Introduction to Objective Psychology. Neural bases of psyche: selected works]. Moscow: Institut psihologii Rossijskoj akademii nauk; 2006. 592 p. Russian.
- Handy ТC, Gazzaniga MS, Ivry RB. Cortical and subcortical contributions to the representation of temporal information. Neuropsychologia. 2003;41(11):1461–1473. doi: 10.1016/s0028-3932(03)00093-9
- Eckstein K, Friederici AD. It’s early: event-related potential evidence for initial interaction of syntax and prosody in speech comprehension. J Cogn Neurosci. 2006;18(10):1696–1711. doi: 10.1162/jocn.2006.18.10.1696
- Friederici AD, von Cramon DY, Kotz SA. Role of the corpus callosum in speech comprehension: interfacing syntax and prosody. Neuron. 2007;53(1):135–145. doi: 10.1016/j.neuron.2006.11.020
- Vigneau, M., Beaucousin, V., Herve, P. Y., et al. (2006). Metaanalyzing left hemisphere language areas: Phonology, semantics, and sentence processing. Neuroimage, 30(4), 1414–1432.
- Anikina VG. [Ideas of M.K. Mamardashvili and cultural and dialogical understanding of reflexion]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 14, Psihologija. 2015;(4):114–122. Russian.
- Mamardashvili MK. [How I understand philosophy]. Moscow: Progress; 1990. 241 p. Russian.
- Mamardashvili MK. [Lectures on ancient philosophy]. Saint-Petersburg: Azbuka; 2018. 300 p. Russian.
- Vygotsky LS. [Thinking and speech]. In: Vygotsky LS. Sobranie sochinenij: v 6-ti tomah. Moscow: Pedagogika; 1982. Vol. 2. p. 5–361. Russian.
- Zaidel E, Kasher A, Soroker N, [et al.] Hemispheric contributions to pragmatics. Brain Cogn. 2000;43(1–3):438–443.
Дополнительные файлы